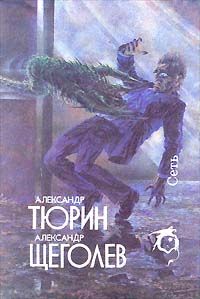Александр Андреев - Ясные дали
— Они ведь вас считают, Серафима Владимировна, недосягаемой, — усмехнулся Сергей Петрович.
Казанцева рассмеялась:
— Неужели правда? А ведь шесть лет назад я была такой же, как и вы, фабзавучницей. — Мы недоверчиво переглянулись. — Отец у меня слесарь-водопроводчик. Когда я окончила пять классов, он устроил меня в школу ФЗУ. Я училась на слесаря. После школы работала полтора года на Втором часовом заводе…
— Обманываете, небось? — с сомнением спросил Иван и подался к ней, глядя на ее руки. Казанцева протянула ему левую руку; он взял ее и, поворачивая, начал тщательно исследовать: на ладони и на пальцах были видны узенькие пятнышки-шрамики — следы порезов и ссадин.
— Это вот напильником полоснула, — разъясняла она, — это от удара зубилом, а это я не знаю уж чем.
— Как же вы из слесаря в артистку-то вышли? — спросил предельно заинтересованный Фургонов.
Она улыбнулась, развела руками и простодушно призналась:
— Очень уж хотелось быть артисткой, вот и вышла! Когда работала на заводе, играла в драмкружке. Потом руководитель посоветовал мне поступить в актерскую школу при киностудии, подготовил меня, я выдержала испытания. Там меня научили мастерству, поставили голос. И тогда же меня стали снимать в кино. Вот и все.
Мы молчали, пораженные тем, как все это просто, естественно и захватывающе интересно. Как бы угадав наши мысли, Серафима Владимировна сказала:
— Это на первый взгляд кажется все сложным, почти недосягаемым, а если разложить все по годам, по ступеням, по шагам, — все станет гораздо проще… Самое главное, ребята, — иметь цель жизни. Выбрал цель — счастливый человек. К ней отовсюду у нас прийти можно: из города или из деревни, — все равно придешь, достигнешь; нет такой цели, чтобы нельзя было отыскать к ней дорогу или тропинку. Я это на себе проверила.
Казанцева повернулась и вопросительно поглядела на Сергея Петровича, как бы спрашивая, так ли она сказала. Пощипывая ус, он чуть заметно кивнул ей и встал. Мы поняли, что пора уходить, и стали прощаться. Провожая нас Серафима Владимировна сказала:
— Я слышала, что вы собираетесь летом в Москву? Приедете, позвоните мне, встретимся… Может быть, удастся показать вам, как снимается фильм.
Лена не утерпела и спросила решительно:
— Скажите, Серафима Владимировна, Эрнест Иванович — это ваш муж?
Казанцева опять засмеялась и ответила просто:
— Мой муж в Москве. Он инженер. Мы вместе фабзавуч кончали.
Лена сразу расцвела и посмотрела на меня внимательно и восторженно. А я не мог оторвать взгляда от Серафимы Владимировны. Ну есть же такие красивые, такие веселые и душевные женщины!
3В выходной день утром, принарядившись, мы шестеро — жители нашей комнаты, Лена, да по дороге увязался с нами Болотин — отправились в рабочий поселок к учителю. Деревянные одноэтажные домики, похожие друг на друга, были обнесены низенькой изгородью. Зимой бураны нагромождали здесь высокие снежные горы: по утрам люди расчищали дорожки от крыльца к калитке и дальше, на дорогу. Теперь здесь было тесно от тучной зелени садов. Домик Тимофея Евстигнеевича казался мохнатым, сирень переплелась ветвями и заслонила окна, выплеснув наружу тугие пенисто-белые и синие с изморозью бутоны цветов; сверкая крупными росяными каплями, они тонко благоухали. Грузными куполами нависли над крышей кроны лип.
Пройдя к дому, мы остановились рядом, положив руки на острые копья изгороди. В окно видны были спинка кровати, край подушки и смутно-темный клинышек бороды из-за нее. Смелость и торжественность наши сразу пропали.
— Спит, наверно, — почему-то шепотом сказал Санька. — В другой раз лучше зайдем…
— А может, не спит, — возразил Болотин. — Надо послать кого-нибудь одного, узнать. Могу я пойти…
— Иди ты, Лена, спроси у Раисы Николаевны: можно ли нам? — сказал Никита, открывая калитку.
Лена закинула косы за спину, проскользнула в калитку и пошла по желтой дорожке к крыльцу. Едва она скрылась в домике, как в двери появилась Раиса Николаевна в цветном халатике и позвала нас. Мы вошли в комнату. Сюда сквозь листву сирени скупо пробивались солнечные лучи: по чистому полу были разбросаны пятнистые тигровые шкуры теней.
Раиса Николаевна приблизилась к кровати и дотронулась до руки Тимофея Евстигнеевича:
— Тима, ребята пришли…
— Ребята? Какие ребята? — непонимающе спросил учитель и оторвал от подушки голову. — Подай мне очки.
Она дала их и помогла ему сесть. Учитель, увидев нас, оживился:
— Ах, это вы пришли!.. Ну-с, проходите, кто тут?
Мы взяли каждый по стулу и расселись вокруг кровати.
Тимофей Евстигнеевич похудел, нос его заострился, сквозь прозрачную кожу на висках и на лбу проступала синяя паутина жилок. Только бородка по-прежнему воинственно торчала вверх. Учитель растроганно улыбался грустными глазами, увеличенными выпуклыми стеклами очков.
— Ну-с, ну-с, — повторял он, закрывая грудь простыней. — Очень хорошо, что пришли… — оглянулся на нас и замолчал.
Лена призналась:
— Скучаем мы без вас. Больно вы долго хвораете…
— Да, валяюсь вот, — сознался учитель с горечью. — Ослаб… Но ничего. На свете бывают две болезни: немощь души и немощь тела. Я слаб телом. Это не страшно, это пройдет. Увлекся я тогда, на пожаре, забыл, что трухлявый весь, и простыл…
Иван внимательно слушал, слушал и вдруг спросил:
— Может быть, вам железа не хватает?
— Железа? Почему железа?
— Всякое бывает, — пояснил Иван. — У нас в деревне случай был с садовником, дедом Баздякой… Такой, понимаете, расторопный старик был, всегда рысью бегал по порядку. Наши хитрости наизусть знал — яблоко не украдешь, не-ет!.. Сам не ел и другим не давал. Поймает и крапивой по голому месту, а то из ружья вдогонку пальнет. Он солью стрелял. Однажды мне попала такая дробина, так я ни встать, ни сесть не мог, пока она не растаяла и не вытекла оттуда. Жадный был старик. И вдруг дед Баздяка занемог, чахнуть стал… Ну, нам свобода: в саду мы хозяева! Как-то раз забрались, насовали яблок за рубашки, раздулись, все равно что самовары, домой было собрались, да захотелось взглянуть на деда: что с ним такое приключилось. Заглянули в шалашик — он на соломенной подстилке валяется, стонет: старуха, видно, припарки ему только что сделала… Прокрались к нему, сидим, не дышим. А он увидел нас и шепчет так жалобно: «Конец мой, — говорит, — пришел, ребята, умираю». А глаза-то его все ж приметили, что мы с яблоками, спрашивает: «Хороших ли нарвали?» Мы говорим: «Первый сорт, дедушка, анисовые, сладкие!» Это, значит, те самые, которые он больше всего остерегал. «Дайте, — говорит, — перед смертью съесть одно…» Мы отодвинулись в сторонку, посовещались: давать ему или пускай мучается за его жадность? Решили дать: натрясем себе в десять раз больше… Съел он одно, другое, третье… Мы вытаскиваем из-за пазухи, подкладываем ему, а он ест, как в прорву валит! Все подчистил да еще с яблони набить послал. И, скажите на милость, ведь ожил! Наелся и оживел. Совсем здоровый стал, даже повеселел… «Ну, — думаем, — сейчас награждать нас станет за такую выручку!» А он как гаркнет: «Вы чего по чужим садам шатаетесь?! Хозяин сомлел, а вы уж тут как тут! Я вас проучу!.. Вон из сада!» И к ружью тянется… Мы кто куда, только подавай бог ноги… А после один московский студент объяснил нам, что в нем, в Баздяке, железо кончилось и вы, говорит, яблоками вылечили его, вроде как спасли от смерти. Вон как! Так, знаете, мы аж заплакали от досады: простить себе не могли, что вылечили! К саду-то не подойти, так и жди соль в зад… Вот как случается, Тимофей Евстигнеевич. Вы спросите врачей, они вам скажут, что человек в самом деле без железа жидок, поэтому и никнет… — Иван облизал свои большие мягкие губы, сложил их «бантиком» и с важностью выпрямился на стуле.
Тимофей Евстигнеевич откинул голову на подушку, бородка его затрепыхалась от беззвучного смеха. Мы прыснули вслед за ним, и в комнате стало шумно, весело. В дверях появилась испуганная Раиса Николаевна.
— Так, значит, пожалели, Ваня, что вылечили садовника-то? — спросил учитель, смеясь, снимая очки и вытирая платком глаза.
— Я вам серьезно говорю, а вы смеетесь! — обиженно пробурчал Иван, шмыгнул носом и замолчал.
— Мне, Ваня, надо бы каленого железа… Мои болезни только каленым железом выжечь можно. — Тимофей Евстигнеевич утомленно провел ладонью по жаркому лбу, стер капельки пота, вздохнул: — Эх, ребятки мои, озорные человечки, люблю я вас…
— Мы вас тоже любим, Тимофей Евстигнеевич, — взволнованно проговорила Лена.
Учитель выпил поднесенное Раисой Николаевной лекарство, поморщился, помедлил, потом ответил:
— А за что же не любить меня? Я не злой, не скучный. Скучные люди вроде угара: от них голова болит… Вот учу вас разным премудростям, хорошие слова говорю, знаю, что плохие вы сами без меня услышите… — Остановив на мне просветлевший взгляд, спросил с оттенком удивления: — Дима, ты причесан? Видишь, причесался — и сразу стал красивым и даже тихим.