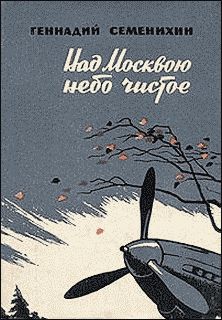Сергей Каширин - Предчувствие любви
Аэродром, к счастью, был пустым, эскадрилья еще не вернулась, и никто из бывалых пилотов этих художеств не видел. Зато видел Карпущенко, и нашего самолюбия он не пощадил.
— Покажитесь, голубчики, покажитесь! — встретил он нас на стоянке. — Носы не расквасили? И шишек не набили? Как же вы это, а? Такого кордебалета я давно не видал.
Оправдываться и что-то возражать ему из-за вполне понятной скромности мне не хотелось. Молчали и остальные. Но наше молчание лишь распалило старшего лейтенанта.
— У вас что — шестеренки в мозгу позаржавели? Летчики! — гремел он. — Какой дурак вас учил? Гробовозы!
— Полегче на поворотах! — негромко, но внятно выдал вдруг Пономарев.
— Что? — дернулся Карпущенко. — Ты что сказал?
— А ты не кричи, — весь напрягшись, отрезал Валентин. — Здесь глухих нет.
— Ах вы!.. — старший лейтенант, казалось, задохнулся от возмущения. Глаза его недобро сузились, будто он смотрел в прорезь прицела. И все же совладал с собой, заговорил, как бы снисходя к заносчивым юнцам: — Ах портачи вы зеленые… Ну что с вас возьмешь! Вам сразу после училища — бац по две звездочки, вот вы и возомнили. Тоже, мол, офицеры. Только офицеры-то вы офицеры, а летчики пока никакие. Нас во время войны как летчиками делали? За полгода. А летали мы лучше, хотя сержантами были и до лейтенанта три года топали.
— Вы три года, а мы — все шесть. Даже шесть с половиной. Люди за такой срок университеты кончают.
— Ломоносовы, ешь твою корень!.. Грамотеи!.. Это откуда же вы шесть лет наскребли?
Тут уж мы все взбунтовались. И, перебивая друг друга, принялись объяснять. Подготовительная спецшкола — три года. Какая такая подготовительная? Обыкновенная. Спецшкола ВВС — или товарищ старший лейтенант не знает? Так вот, подготовиловка — три года, летное училище — тоже три. Да еще на полгода наш выпуск задержали — дали дополнительно программу боевого применения. Это что — хала-бала или как?
— «Хала-бала»… «Программа»… — зло передразнил Карпущенко. — Не знаю, какая уж там программа, а вот пороха-то вы не нюхали — это ясно. Я за ведущим как ходил? Как привязанный. А почему, спрашивается? Да потому! Знал, отстану — собьют. А вы как в строю держались? Да вас бы «мессера» как цыпленков по одному посшибали. Что?.. Молчите? То-то же. А посадка?..
Прижал он нас, загнал-таки в угол. Шмыгая носами, мы смущенно переминались с ноги на ногу. Неподалеку возле самолета работали, проводя послеполетный осмотр, капитан Коса, ефрейтор Калюжный и другие механики. Они видели, как Карпущенко нас распекает, и нам было неловко.
— Аэродром-то нам незнакомый, — хмуро буркнул Лева Шатохин. — Подходы опять же… И машины… Приноровиться надо…
— Во-во! Плохому танцору всегда что-то мешает! — Старший лейтенант взглянул на нас с полным сознанием своего превосходства. — Эх вы!.. А на фронте как было? Я не успел доложиться о прибытии, командир меня хоп — и в кабину: «Твое дело за мой хвост держаться!» Ну я и держался. Зубами держался! Не удержись — не стоять бы сейчас вот здесь. А вы… Е-мое, птенчики! Телепались весь полет, как опилки в проруби, да еще и на посадке чуть машины не угробили…
— Перекурим, товарищ старший лейтенант? — Валентин полез рукой в карман за папиросами.
— Курите, — в голосе Карпущенко послышались усталость и безразличие. Дескать, что с вами толковать! Хмурясь, он все-таки начальственным тоном предупредил: — Только подальше от самолета!..
С минуты на минуту над аэродромом должна была появиться возвращающаяся эскадрилья, и нам хотелось хоть ненадолго остаться в своем кругу. Мы вчетвером, как побитые, поплелись к ближайшему капониру.
— Видали горлодеров? — услышал я за своей спиной голос Карпущенко. — А начни с ними нянькаться — они вообще на шею сядут.
Никто из нас даже не обернулся, чтобы посмотреть, с кем он там делится своими впечатлениями. Не все ли равно!
— Где уж нам, — идя со мной, обиженно бубнил себе под нос Пономарь. — Он — пилотяга, а мы — так себе, мелкая шушера. Нам только и остается, что подобострастно взирать на него снизу вверх. Как будто я виноват, что позже родился и не успел на фронт попасть. А если на то пошло…
В чем-то он был прав. Старший лейтенат Шкатов тоже как-то обмолвился о том, что чувствует себя вроде в чем-то виноватым, поскольку не воевал. Был он во время войны инструктором, но рвался на передовую, подавал рапорт за рапортом, да ему отказывали. Он потом даже нумеровать стал эти свои «челобитные», только начальство на всех налагало неизменно одну резолюцию: «Некем заменить здесь». А после тринадцатого рапорта вызвали Николая Сергеевича в штаб и строго разъяснили, что работа летчика-инструктора, который готовит воздушных бойцов, приравнивается к боевым вылетам. Однако прошла война, об этом как-то забылось, вот и получается, что он, отличный летчик, все-таки не фронтовик. Его бывшие ученики давным-давно майоры да подполковники, а он все еще старший лейтенант. А ведь и поседел-то он из-за них, своих бывших курсантов. Как выпускает каждого в первый самостоятельный полет, так и ходит по аэродрому сам не свой. Уж это-то мы своими глазами видели.
Мы-то, конечно, вообще не в счет — пацаны. Словом, вроде за спиной фронтовиков отсиживались. Да вот ведь какая штука: не за спиной, а на оккупированной территории. Легко ли было?
Никогда не забуду, как у нас в деревне эсэсовцы партизанку вешали. Привязали веревку на сук огромной вербы. Людей со всех хат согнали, даже баб с грудными младенцами, далее старух. Окружили толпу с автоматами да с овчарками, хошь не хошь — гляди! Это чтоб впредь партизанам зареклись помогать.
Так и повесили, сволочи… Ну, так мы-то тогда, да и потом не корили своих за то, что они отступили, бросили нас беззащитными. А теперь перед Карпущенко в виноватых оказались: «Пороха не нюхали, не воевали!»
И не только перед Карпущенко. Кое-кто из инструкторов и в училище нас маменькиными сынками называл. Чтобы, значит, уколоть, подстегнуть. Только это било мимо цели. Были и у нас отцы, да полегли на войне. Кто под Москвой голову сложил, кто под Берлином. Мы поневоле с одними матерями росли. Маменькины сынки!
А у меня и матери давно уже нет. В сорок первом фашистские каратели расстреляли…
Молчу я об этом, сам как-никак мужик. А сердце щемит, щемит…
— Чего нос повесил? — хлопнул меня по плечу Пономарь. — Переживаешь из-за своих дурацких «козлов»? Наплюй и забудь! Смотри на такую ерундистику с высоты трехтысячного года. А? — довольный своим остроумием, он засмеялся: — Людям тридцатого века сегодняшние треволнения — тьфу! Тем паче чьи-то личные неурядицы. Истории подавай великие дела! Ко всякой будничной мелочишке она безразлична.
— Филозоф! — усмехнулся я. — Мыслитель гарнизонного масштаба.
— У-у, бука! — укоризненно протянул Валентин и вдруг, понизив голос, чтобы не слышали Зубарев и Шатохин, с ухмылкой предложил: — Махнем-ка на радиостанцию, а? Погреемся. Новости узнаем. Чего тут на сквозняке торчать?
Уже по одному тому, как он заговорил, нетрудно было догадаться, что его туда тянет. Вернее, не что, а кто.
— Газуй один. Только смотри, не сорвись в штопор. Уж больно крутые виражи гнешь, — отшутился я. И приотстал, сделав вид, что на ветру никак не раскурить сигарету.
Пономарь тотчас принялся что-то нашептывать Леве. Но тот, войдя в капонир, лишь угрюмо хмурился и, глубоко затягиваясь папиросой, выпускал такие клубы, будто хотел поставить вокруг себя дымовую завесу.
А мне опять и опять вспоминалась моя грубая, почти аварийная посадка. Черт побери, а ведь я сегодня запросто мог разбиться. И для трехтысячного года это действительно не имело бы ровно никакого значения.
* * *Истории — что! История знай себе шествовала вперед. Спокойно шествовала. Невозмутимо.
Об этом ежедневно кричали заголовки в газетах, об этом вещало радио. Московский диктор, зачитывая очередное «Заявление ТАСС», внушительно и торжественно провозглашал:
«Никому и никогда не повернуть колесо истории вспять!»
Вращаясь вокруг своей условной оси, земной шар с непостижимой скоростью мчался в солнечные дали реальной бесконечности. Должно быть, от вращения, а возможно, от исполинской поступи истории тревожно подрагивали континенты.
Тревожно было и у меня на душе. Наверно, от перенапряжения в неожиданно трудном полете еще болели мышцы рук и ног. Или я малость простудился? Тяжелой, будто налитой свинцом, казалась голова, ломило и стучало в висках.
Время тянулось как допотопный биплан против встречного ветра. Или, может, это лишь для меня?
Летать на бипланах мне не доводилось. Да, признаться, не очень-то и хотелось. В военной авиации этих небесных тихоходов оставалось с каждым годом все меньше. Даже в училищах первоначального обучения им на смену пришли верткие, похожие на истребители, красавцы монопланы. В небе, подобно белым молниям, уже сновали серебристые реактивные самолеты. В Крымде таких, правда, пока что не было, но, добиваясь сюда назначения, мы верили: они должны появиться и здесь. И если бы кто-то сказал, что в строевой части мне придется начинать свою летную службу на стареньком деревянно-тряпичном ПО-2, я счел бы такие слова злой шуткой.