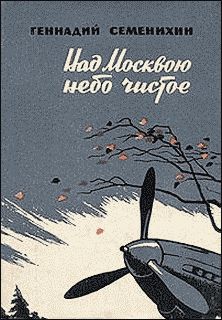Сергей Каширин - Предчувствие любви
— Взлететь-то взлетим, да не знаем, как сядем, — ляпнул он.
Эта фраза в авиации давно уже стала расхожей. Ее иронический смысл в том, что посадка, приземление всегда опаснее взлета. Именно так — как шутку — и воспринял ее Карпущенко. С усмешкой взглянув на Леву, он небрежно обронил:
— Жить захочешь — сядешь.
И эта прибаутка — тоже из арсенала авиационного юмора. У людей, чья работа постоянно сопряжена с риском, и юмор рисковый.
С тем мы и разошлись по самолетам, с тем и стартовали. Была тут, конечно, и спешка, была и переоценка собственных сил, была и надежда на пресловутое русское «авось», но более всего подстегивала гнетущая неизвестность. Откуда же мы могли знать, что произошло!
А произошло вот что.
Где-то там, на чужих военных базах, экраны радаров неожиданно запестрели отметками от непонятных летящих в небе предметов.
Где-то там, за океаном, на командном центре автоматически сработала система подъема самолетов по тревоге.
Армада стратегических бомбардировщиков без промедления взмыла в воздух и легла на заранее рассчитанный курс.
Она черной тучей поползла к заранее намеченным целям. К русским целям!
Эта атомная туча, готовая разразиться атомным градом, непозволительно долго двигалась к нашим границам. А потом выяснилось, что подозрительная рябь на чужих радиолокационных экранах возникла от перелетной стаи диких гусей. Лишь после этого ядерные стервятники получили распоряжение повернуть обратно.
А если бы ошибка не выяснилась или выяснилась с чуть большим опозданием? Она могла бы стать роковой.
Когда-то, согласно преданию, гуси спасли Рим. А тут гуси, — подумать только, безобидные гуси! — чуть было не погубили мир.
Преувеличение? Да как сказать! Для взрыва порохового склада достаточно случайной искры. А сейчас таким складом стал весь земной шар.
Хотя причины тревоги я в тот день еще не знал, сердце сжималось от недоброго предчувствия. Из-под шлемофона ползли капли пота, взмокшая рубаха прилипала к горячему телу, а душу леденил противный холод неясной опасности. Трудно вчерашнему курсанту вот так сразу осознать, насколько тесно его летная судьба связана с тревогами «холодной войны».
Нелегким был наш полет. Говорят, хороший летчик, пилотируя самолет, настолько сливается с ним, что ощущает его крылья как продолжение собственных рук. А по-моему, это все-таки художественный вымысел. Машина остается машиной, даже имея птичий облик. Вряд ли пилот, ведя ее в строю рядом с другими, может чувствовать себя так же свободно, как птица в летящей стае.
Вы только посмотрите: какие-то глупые воробьи не летят — вьются вверх и вниз, едва не задевая друг дружку, и — не сталкиваются. Какое чутье, какой дар пространственного ориентирования, какая реакция! А я, чтобы удерживать свое место в боевом порядке всего лишь пяти самолетов, изнемогал от напряжения. И все вертел, вертел головой, и сам вертелся на сиденье, точно на горячей плите. Не подставить бы снова под удар себя, не напороться бы на кого самому!
От непрерывного одуряющего гула закладывало уши, от нескончаемой вибрации становились чужими, одеревенелыми мышцы. Я грубо, нервно двигал рычагами. Не двигал, а рвал, дергал, и до того раздразнил бомбардировщик, что еле-еле справлялся с управлением. И когда нам разрешили наконец возвращаться на свою точку, меня это ничуть не обрадовало. Мне было как-то безразлично, куда лететь — назад или вперед. Только бы поскорее на землю!
При развороте на обратный курс никто из нашей пятерки не удержался возле ведущего. Вираж должен выполняться в составе группы так, чтобы плоскости всех машин составляли одну прямую линию под довольно-таки большим углом наклона к горизонту. А этого-то добиться нам и не удалось, хотя мы старались изо всех сил. Строй-рой опять рассыпался, и каждый летел как бы сам по себе.
Самому по себе лететь гораздо легче. Не зря, наверно, при перелете на юг поодиночке держатся ястребы. Они не подходят друг к другу ближе ста пятидесяти метров. Вроде и обозначают стаю, а тесноты не любят.
— Где вас там носит? — не утерпев, закричал Карпущенко. — Подтянитесь! Немедленно подтянитесь!
Его раздраженный голос заставил меня встряхнуться. Не хотелось выглядеть перед ним слабаком. Вспомнилось снисходительно-насмешливое: «Полуфабрикаты!» — и грудь обжег злой, жаркий толчок летного азарта. Я вдруг ощутил прилив свежих сил, будто у меня открылось второе дыхание. Тяжело? Ничего, мы еще поспорим! Я еще докажу!..
Сопки на горизонте казались облаками, а облака — сопками. Очертания наземных ориентиров в пасмурном небе были нечеткими, расплывчатыми. Я с трудом различил впереди перед собой еле заметную с высоты ленту бетонированной полосы. Какая она, однако, узкая! Да, это не учебный аэродром, тут нужен точный расчет для захода на посадку, а то и промахнуться недолго.
Приглушив моторы, я начал пологий спуск. Нос самолета нацелился в передний торец бетонки. Посадочный курс по приборам — градус в градус. Порядок!
При выпуске шасси и тормозных щитков бомбардировщик заволновался, пошел как бы по ухабам, то ощутимо взмывая, то проседая. И земля подо мной то опускалась, то снова вздымалась. Я успокоил машину триммером, еще раз проверил угол снижения. Вроде все нормально. Стоп, а это что? Это…
Справа и слева, словно стремясь зажать меня в клещи, разом взметнулись две угрюмые вершины. Самолет засквозил между ними, едва не задевая плоскостями припорошенные снегом склоны. У-у, канальи, чиркнешь крылом — амба!
Высотомер показывал почти полкилометра, а на уровне кабины, сливаясь в сплошные полосы, проносились и исчезали позади валуны, деревья, серые кочки лишайника. Экзотика, черт побери!
Будь она трижды неладна, эта северная экзотика! В момент подхода к земле летчику, как нигде, нужны полная собранность, выдержка и глазомер, а я отвлекся. И всего-то на какую-то долю секунды отвлекся, а когда опять перевел взгляд вперед, впору было зажмуриться. Бетонка и без того приближалась слишком быстро, а теперь бросилась на меня стремглав. Я рванул штурвал к себе и до упора затянул рычаги газа. Круто ломая траекторию спуска, бомбардировщик выровнялся, но вдруг, будто не желая садиться, опять полез вверх.
Резко, слишком резко! Кто же так работает рулями перед самым приземлением! И ветер. Я не учел встречно-боковой ветер, и машина взмыла. Высота сейчас должка быть не больше метра, а у меня…
Что делать? Врубить моторам форсаж и, пока не поздно, уйти на второй круг? А если моторы не заберут? Трахнешься — частей и костей не соберешь.
Онемевшая рука до боли стиснула и чуть отжала штурвал. Самолет, словно задумавшись, на мгновение завис, вяло качнулся и камнем ухнул вниз. Инстинктивно втянув голову в плечи, я падал отдельно, а сердце — мое сердце! — падало отдельно. У-уфф!..
Долгим-долгим, затяжным, до тошноты противным было секундное падение. Как будто чья-то холодная и безжалостная пятерня сграбастала, сжала в комок мои внутренности и рывком подтянула их к самому горлу. Наконец — удар! Встряхнувшись, словно собака, выскочившая из воды, машина сделала отчаянный прыжок.
«Козел»… Здоровенный, дикий «козлище». Сердце юркнуло в пятки. С хрустом, готовые отвалиться, содрогнулись, затрепетали плоскости. Прося пощады, гулко охнули, застонали гидравлические амортизаторы.
В смотровом стекле — пустота. Как высоко я взмыл? Где земля?
— Держи, держи!.. Добирай! — загремело в наушниках.
Это — голос руководителя полетов. По его подсказке я почти бессознательно шевельнул штурвалом и успел смягчить второй удар. Бомбардировщик подпрыгнул уже не так высоко, затем сделал еще несколько мелких подскоков и, подрагивая на стыках бетонных плит, побежал по посадочной полосе. Казалось, он подрагивает от только что пережитого страха.
— Тормози! — уже спокойнее подсказал мне руководитель полетов. И все же не сдержал гнева, выдал: — Отруливай к чертовой матери! Убирайся к едрени-фене!
Это уже не юмор. Это суровая авиационная проза. Не до учтивости, не до тонкостей в обращении, когда один покоритель воздушной стихии чуть не разгрохал самолет, а за ним на посадку заходят такие же другие. Того и гляди наскочит задний на переднего — от них всего ожидать можно.
Я и сам понимал, что нужно поскорее освобождать бетонку, но мой норовистый бомбовоз продолжал взбрыкивать по-козлиному даже после пробега. Срывая на нем закипевшую злость, я на всю катушку дал газ и с силой даванул левый тормоз. Тяжелый корабль обиженно взревел, резко крутанулся на одном колесе и, опрометью выскочив на рулежную дорожку, понесся по ней, как ужаленный.
А злиться-то мне следовало на самого себя. Пыжился: сяду — все позавидуют. Сел! В лужу сел. «Доказал»!..
За мной садился Шатохин. Ему, видимо, понравились мои «козлы», и он отколол целую серию собственных, еще более резвых. Одному аллаху известно, как уцелела его машина.