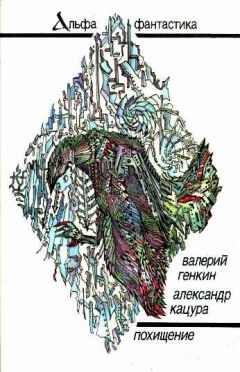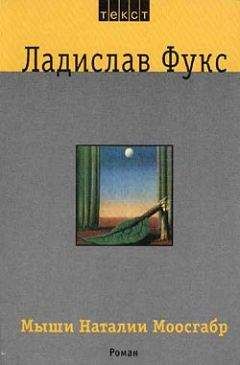Ладислав Мнячко - Смерть зовется Энгельхен
Как же это я в первые дни, проведенные в госпитале, не замечал всей красоты снаружи? Как это я не замечал всех перемен вокруг меня? Как случилось, что, занятый своим несчастьем, я и думать забыл о людях, которые не должны больше гнуться под бременем невыносимой тяжести, не подумал о том, что кончилось время, когда вся жизнь человека была задушена, что не нужно больше подавлять чувства, страсти, скрывать мысли…
«Идиот, — казнился я, — ты уж решил, что, кроме тебя, и на свете никого нет…»
И меня охватила радость оттого, что люди живут, что им хорошо, что у них свои радости и печали, заботы, успех, ненависть, любовь. В этом мире найдется кое-что и для меня, и для меня…
Таковы были мои дни, полные тихого раздумья, а иногда меня посещала и надежда. Фиалки на столе, заботливый врач, милая Элишка… Чего же мне желать? Но вечерами передо мной снова разворачивалась вся цепь событий, мелькали мрачные кадры, на потолке плясали какие-то тени — страшная, не перестающая мучить меня Плоштина являлась передо мной. В эти бессонные ночи я не мог переворачиваться с боку на бок, ибо право это принадлежит лишь здоровым людям — ворочаться с боку на бок во время тяжких ночей… Я не двигался, смотрел в одну точку на потолке, ветер шевелил ветки, тени плясали, и я старался различить в странных очертаниях образы недавнего прошлого; я не хотел этого и защищался от видений, но не мог их прогнать.
— Опять вы ночью кричали, — говорила Элишка с упреком.
Как будто ночные видения в нашей власти!
— А скажите, Элишка, зачем вы проводите со мной столько времени?
Она ничего не ответила. И отвернулась. Мне показалось, что она покраснела. А ведь она сестра, больничная сестра, чего только она не пережила, не видела, не слышала — и еще умеет краснеть.
— Ах, Элишка, Элишка…
— Элишка как Элишка, ничего особенного.
— А что Здено? Пишет он из Германии?
— Да нет…
Она отвечала неохотно.
— Недели три назад получила письмо. Пишет, что скоро вернется…
— Ну, не так это легко… А рады вы, что он возвращается?
Я так и не узнал, рада ли она. Вид у нее, во всяком случае, был не очень счастливый. И вообще мне казалось, что она говорит о Здено без всякого удовольствия. А я все время возвращался к этой теме.
— Расскажите мне что-нибудь, Элишка… О Здено… о себе.
— И совсем нечего здесь рассказывать… Лучше вы расскажите… Вы так рассказываете, что никогда не надоест слушать. Расскажите о Плоштине…
Да, я и в самом деле научился рассказывать — вот как далеко я зашел. Я рассказывал о Плоштине. Элишка была благодарной слушательницей; слушая, она вскрикивала, переспрашивала, негодовала… И мне это помогало, мне не приходилось больше душить в себе одни и те же вопросы, я мог задавать их вслух и стараться даже ответить на них. И это было лучше, чем игра теней на потолке.
Я рассказывал о Плоштине. О том, что совсем еще недавно хотел скрыть от всего мира и прежде всего от самого себя.
Выдался один из тех редких дней, когда все мы были вместе. Недалеко от Плоштины, на одном из хуторов, где мы попеременно располагались. Везде нас охотно принимали, отдавали все, что могли. Так вот, в этот день мы собрались после опасной операции, которую успешно провели на самой границе. Николай с самого начала завел такой порядок: все, что мы предпринимали против оккупантов, должно было происходить как можно дальше от тех мест, где мы обычно находились, где мы спали, отдыхали, собирались с силами для предстоящих боев.
Зима была тихая, погода благоприятствовала нам, снег почти сошел, и врагу нелегко было бы нас выследить. Теплый ветер высушил дороги и лесные тропинки в горах, солнце ласкало нам лица, мы были беззаботны, счастливы, у всех пробудились желания, все мечтали. Это был «мой» день. Негласно Николай назначил меня чем-то вроде комиссара отряда.
— Ты должен объяснить им, Володя, исподволь подвести их к тому, что не только победа над гитлеровцами — цель этой войны. До победы теперь недалеко. Она решена на других полях сражения. Понятно, каждым ударом мы ускоряем поражение немцев, но все равно победа за нами. Что же будет потом, что будет после победы? Мы не станем вмешиваться в ваши дела, но нам, конечно, небезразлично, какое у вас тут будет правительство, с кем вы пойдете после войны.
Я уверял его, что это тоже дело решенное, что совершенно ясно, на чьей стороне симпатии целой нации.
— Это теперь, Володя, когда решается вопрос жизни и смерти. Но когда минует опасность, появятся другие заботы. Люди у вас всякие, буржуи будут приветствовать Красную Армию, а сами думать, как бы поскорее от нее избавиться. Ты-то наш, Володя!..
— Я ваш, Николай.
— Значит, договорились. Очень многое после войны будет зависеть от партизан, потому нам и не все равно, какими они станут, как будут подготовлены к тому времени, которое наступит. Ребята любят тебя, ты пользуешься влиянием в отряде, наши партизаны — отличные люди, они пойдут туда, куда мы поведем их.
Оказалось, что задание, полученное мною, не из легких. В отряде были и рабочие, но большинство его составляли крестьянские парни из ближних и дальних деревень, с выселков. Были и студенты — Фред и еще двое. Были и такие, что пришли в отряд из любви к приключениям, их привлекала возможность носить оружие, издавна дающее мужчине уверенность в себе. И они ни на минуту не оставляли свое оружие в покое: они чистили его, разбирали, собирали, снова разбирали и снова собирали. Собственно, это были дети. Конечно, безграничная ненависть к оккупантам была той силой, которая объединяла нас всех, но каждый ненавидел по-своему. У одного убили отца, у другого дядю, третий хотел учиться, а немцы закрыли институты, четвертый пришел к нам без личных мотивов — и эти были лучшими, пятый бежал из гестапо… Но все желали одного — по личным или неличным причинам — как можно скорее выгнать оккупантов из страны. Однако о свободе, которая должна была прийти, о том, какой она должна быть, о том, чего ждать от нее, ни у кого не было ни общего, ни определенного мнения. Ко мне приходили с заботами, сомнениями, я стал каким-то общим советчиком, мне требовалось все знать, во всем разбираться — и в том, должен ли жениться против воли родителей восемнадцатилетний шалопай, и в том, не лучше ли, если бы вместо русских нас освободили американцы. А я знал очень мало и не всегда с честью выходил из трудного положения, не раз меня припирали к стене последним, отчаянным средством: «А ты обязан так говорить, ведь ты коммунист».
Напрасно я старался убедить их, что я вовсе и не коммунист, что, разумеется, я вступлю в коммунистическую партию, но сейчас еще я не коммунист… никто не хотел этому верить.
И хотя случались споры, слушали меня внимательно и начинали задумываться над такими вещами, которые раньше и в голову никому не приходили. Меня радовало, что они верят мне, что советуются со мной, спорят, делятся плохим и хорошим. Меня и разыгрывать пытались, но я не обижаюсь на такие вещи.
В тот идиллический день, полный скромного партизанского счастья, я обходил небольшие группы, расположившиеся на солнышке. Все мы были беззаботны. Даже Николай, всегда такой осторожный, только наслаждался теплом и тихой погодой. Мы пели, шутили; Фред крутился возле хозяйской дочки, ребята чистили оружие, чинили сапоги. Партизаны задумчиво рассматривали свое нехитрое имущество, приводили в порядок небогатый гардероб, обсуждали, как бы раздобыть нож получше, или крепкие немецкие сапоги, или автомат. Об этом мечтали все, кроме счастливых обладателей автоматов, для которых это оружие было и наградой и знаком отличия.
— Не верь ты ему, Милка, — говорил я девушке, а Фред злился, — он всем одно и то же поет. И на каждом хуторе у него по две подружки…
— Ну и что особенного, — вызывающе смеялась девчонка, — на то он и молодой…
Фред нравился хуторским девчонкам, и то, что я говорил о нем, не было таким уж большим преувеличением. Если уж не по две подружки было у Фреда на каждом хуторе, куда мы приходили, одна ждала его непременно.
— Володя, — позвал меня Ладик, — а правда, что при коммунизме все женщины будут общие?..
Все заржали. Ноги у Ладика были обмотаны тряпьем — три дня назад он сушил намокшие сапоги и забыл их вынуть из печи. Подметки и обуглились.
— Если не убьешь немца, плохо твое дело, без сапог тебя любить не станут… — поддразнил Ладика Тарас.
В воздухе послышался рокот моторов, и мы не успели обсудить до конца проблему любви в коммунистическом обществе.
— Воздух! Прячься! — приказал Николай.
Мы разбежались по домам. Вдруг Тарас, который не отходил от окна, принялся отплясывать как полоумный.
— Наши! Наши! Это наши! — заорал он, выбегая из избы.
Тарас был летчиком, ошибиться он не мог, самолеты летели низко, мы ясно видели красные звезды и тоже готовы уже были броситься вслед за Тарасом, но Николай опередил нас, накинулся на Тараса и страшным ударом в живот и в подбородок опрокинул его на землю. Это вернуло нас к действительности, к сознанию, что мы не на воздушном параде. То, что советские истребители пролетали над городами, было радостным событием, фронт все ближе и ближе, это патрульные полеты.