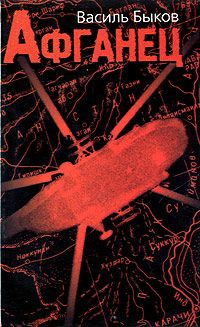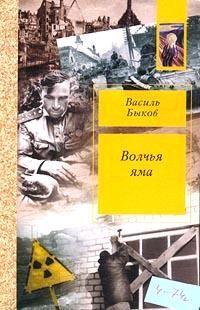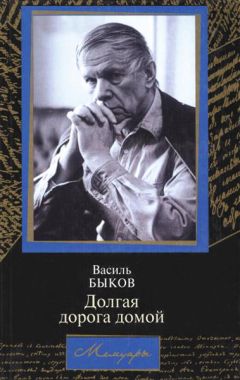Василь Быков - Подвиг (Приложение к журналу "Сельская молодежь"), т.2, 1981 г.
Антон задумчиво топтался на примятой соломе каморки. В глаза ему попался на полу старый растоптанный окурок, нагнувшись, он подобрал его и понюхал. Это был окурок немецкой сигареты — тонкий, из желтоватой бумаги, хотя, конечно, курить его тут мог кто угодно — от немцев до партизан, наверно, народу тут перебывало немало. Беглым взглядом Антон окинул выпиравшие из стены гранитные бока камней и под окошком в углу увидел грязный обрывок бинта. Потянул за него — из-под соломы вытянулась целая связка старых, замусоленных, ссохшихся от крови бинтов, которые он брезгливо отбросил в сторону и носком сапога стал заталкивать поглубже в солому. В это время в каморку вбежала Зоська с неестественно побледневшим лицом, и Антон вопросительно вскинул навстречу голову.
— Антон! Там...
— Что такое?
— Там убитые!
Убитые — не живые, убитых можно было не бояться, подумал Антон, убирая руку из кармана с наганом. Зоська выскочила из каморки, и он не спеша пошел за ней через языки снежных суметов в дальний, с обрушенной крышей, конец оборы.
— Вот, видишь? Я гляжу, думала — камни, подхожу, а это убитые. Глядь, боже! Да это же наш Суровец! — вся содрогаясь от волнения, говорила Зоська.
Антон подошел к стене, где в сумраке нависшей, полуобвалившейся крыши за грудой камней лежали убитые.
Действительно, один из них был Суровец. Антон сразу узнал его по венгерскому песочного цвета кителю со множеством пуговиц по борту — такого шикарного кителя не было ни у кого в отряде. Других признаков удалого подрывника осталось немного, разве что его непокорная, всегда распадавшаяся надвое шевелюра, которая теперь была примята и смерзлась от залепившего ее снега. Суровец лежал на спине вдоль стены, раскинув босые, в грязных потеках ноги, с правого бока чернела у него рваная дыра в кителе. Видно, еще у живого из нее наплыло много крови, которая темной лужицей смерзлась на грязном, в навозе, земляном полу. Рядом, привалясь правым плечом к стене, сидел, согнувшись и низко уронив голову, другой партизан в грязной голубой майке. Все верхнее с него было снято, и в майке на спине чернели три кровяных дыры от пуль, вышедших где-то спереди, — все там у него на груди, животе и коленях было залито заскорузлой спекшейся кровью. Этого второго Антон знал мало, даже не помнил его фамилии, он появился в отряде недавно, говорили, какой-то комсомолец из местных.
— Вот видишь? Антон! — схватила его за руку Зоська. — Это как же? Ведь это же их убили?..
— Ну понятно, убили. Не удавили же, — сказал Антон и тронул сидящего за плечо. Труп, покачнувшись на коленях, мягко завалился на бок, не двинув ни одной закостеневшей конечностью, — поджатые к животу руки и согнутые в коленях ноги так и остались в прежнем, согнутом, положении.
— В спину. Видишь, из автомата сзади. Полицейская работа, сразу видать, — сказал Антон и посмотрел на Зоську, которая изменилась в лице; Антон переживал тоже, но не очень чтоб сильно. Он уже разучился сильно переживать за других, настало время позаботиться о себе. Чтобы тоже не пришлось кому-либо переживать за него самого.
— Антоша, как же так? Они ведь пошли в Лиду, как же они оказались здесь? И где остальные? Ведь никто же из шестерых не вернулся.
— Теперь как узнаешь? — сказал Антон. — Теперь тут все — темный лес.
— Слушай, а почему полицаи их не забрали? Почему здесь оставили? — не унималась с вопросами Зоська, кажется, готовая вот-вот заплакать. Обеими руками она вцепилась в кожушок Антона.
— А я откуда знаю? Может, для приманки. Вот мы пришли, а они и нагрянут. Кто их, сволочей, знает.
Зоська, побледнев, во все глаза смотрела на Антона.
— Что же нам делать, Антон? — испуганно вопрошала она.
— Черт его знает, что делать. Пойдем пока отсюда.
Они перелезли через обрушенную со стены груду камней и вернулись в свой конец оборы. Зоська все оглядывалась, остро переживая гибель знакомых людей, у Антона же было такое чувство, словно он попал в западню и не спешит из нее вырваться. Он уже знал по опыту, что промедление никогда не сулит хорошего и запросто может погубить любого. (Не оно ли погубило в этой оборе и Суровца?) Вполне возможно, что полицаи при случае или регулярно наведываются в это одинокое в поле убежище и кое-кого застают тут. Нет, надо скорее смываться отсюда, думал Антон. Но как смоешься, когда в этом поле ты виден на пять километров и в любой момент тебя могут настичь полицаи?
— Придется пока торчать тут, — сказал он, заглядывая в широкий проем сорванных с петель ворот. — Только наблюдать надо. А то...
Зоська поняла и тоже остановилась, выглянув на ветреный снежный простор. Поле перед оборой лежало пустое, с едва заметным отсюда следом саней на дороге; в ворота задувал промозглый, насыщенный влагой ветер; рыхлый, нападавший за ночь снег всюду осел, будто подтаял; кустарник возле оборы резко зачернелся на его белизне; с толстых сучьев мощного вяза то и дело валились вниз мокрые комья снега. Там где-то, на невидимой из оборы верхушке, возилась и громко кричала ворона.
— Цыц, зараза! — сказал Антон, подумав, что ворона теперь ни к чему, ворона может их выдать. Подняв из-под стены обломок стропила, он ступил на шаг из ворот и замахнулся. На вязе, оказывается, расположилась целая воронья стая, Антон запустил палкой — вороны одна за другой нехотя снялись и низко полетели куда-то за обору.
— Зося! — сказал Антон, возвращаясь в обору. Зоська все еще с бледным лицом внимательно посмотрела на него, и в этом взгляде была бездна безысходной печали. — Зося! Ты понимаешь наше положение? — сказал он, тоже заглядывая ей в глаза.
— Ну, понимаю, — тихо ответила она.
— Нет, ты не понимаешь, — сказал он. — Если действительно Сталинград взят, то... войне конец. Или они замирятся, или... Ведь России ничего не остается. Сибирь? Но что в той Сибири? Ведь они зашли вон куда, за Москву. Ты понимаешь?
— Я понимаю, — по-прежнему тихо ответила Зоська.
— Поэтому, чего же мы дождемся в этой Липичанской пуще? Они же нас собаками перетравят. Если мы раньше с голоду не дойдем.
Зоська слегка отвернулась от него и с прежней горькой тоской в глазах глядела из ворот в пасмурную даль поля, на котором поблизости решительно ничего не было, лишь вдали по горизонту тянулась сизая полоса леса.
— Может, и так, — горестно сказала она.
— Так вот, малышка! У тебя в Скиделе мать, у меня там, я говорил тебе, начальником полиции Копыцкий, мой землячок из Борисова. Он должен помочь. Давай останемся у тебя. Будем жить как люди, как муж и жена. Я же полюбил тебя, Зоська.
Кажется, он сказал все и, осторожно обняв ее за плечи, привлек к себе, не почувствовав, однако, ответного ее движения. Зоська, словно ей стало плохо, ни жестом, ни движением не высказала ни своей радости, ни несогласия. Она будто одеревенела в его руках, и он тихо воскликнул, вложив в свое восклицание всю ласку, на которую был способен:
— Зоська!
— Да, — вздохнув, сказала она. — Ты это пошутил? Ведь пошутил, правда? — И отстранилась, деликатно, но настойчиво высвобождаясь из его рук.
— Нисколько! Я вполне серьезно.
Она сделала три вялых шага и остановилась у притолоки, все наблюдая за полем. Антон снова порывисто обнял ее сзади и легонько поцеловал в щеку.
— Не надо, Антон.
— Ну как же... Ведь я люблю тебя.
— За это спасибо. Но... То, что ты предлагаешь, в другое время было бы... было бы счастьем. А теперь...
— Ну а теперь что?
— А теперь подло. И даже больше, чем подло.
— Чудачка! — сказал он, почувствовав, что начинает нервничать. — Вот ты наслушалась пропаганды... А ты не подумала, кроме всего, о своей матери. Что с ней будет?
— Не знаю, что будет, Антон, — каким-то чужим, изменившимся голосом сказала Зоська. — Но в такое время бежать из отряда... Знаешь, так даже шутить нельзя. Это чересчур страшно.
— А я тебе говорю, самое время. В отряде оставаться больше нельзя.
— Время действительно трудное. И потому бежать — это предательство. Это ты сказал, не подумав.
— Нет, я все хорошо обдумал. Я хочу сохранить тебя, и твою маму, и себя, конечно. Иначе, ведь ты понимаешь, мы все обречены на гибель. Как те вон, — кивнул он в дальний конец оборы.
— Что ж, возможно, — согласилась Зоська, во второй раз ставя его в тупик. Он больше всего боялся, что она не поймет его доводов, а она, оказывается, доводы хватала на лету, но никак не могла принять следовавшие за ними выводы.
— Возможно, возможно! — начал терять рассудительное спокойствие Антон. — Так что же ты хочешь? Погибнуть? Может, тебе жить надоело?
Зоська со вздохом повернулась к нему лицом и взяла его за большую пуговицу на кожушке.
— Антон, ты понимаешь... Кому жить не хочется! Я совсем и не жила еще. Но что же ты предлагаешь? Идти к фашистам? Что же это такое? Это же хуже смерти. Тут надо потерять всякую совесть. Они же чума двадцатого века. Против них поднялся весь мир. С ними жить невозможно, они же звери.

![Василь Быков - «Подвиг», 1989 № 05 [Антология]](/uploads/posts/books/147491/147491.jpg)