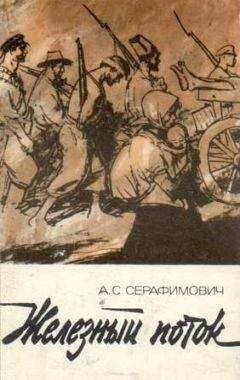Василий Милютин - Лаг отсчитывает мили (Рассказы)
— Ничего не видно, штурман?
— Ничего.
Видимость ухудшалась. Черные тучи опускались ниже и ниже, прижимали вертолет к воде.
…Первым заметил шлюпку штурман. Он не мог удержаться на месте, вскочил с сиденья, махал рукой, кричал что-то, как будто люди на шлюпке могли его услышать и увидеть.
— Держитесь, ребята! Сейчас спасем вас! — твердил он. Крик его, усиливаемый ларингофоном, оглушал пилота.
— Успокойтесь, штурман! — остановил его капитан. — Мы напрасно столько переживали за них. Эти люди и не нуждаются в спасении. Смотрите, как уверенно гребут. Вам приходилось видеть гибнущих? Те бы сейчас вскочили, протянули руки к нам. Снизься ниже — за хвост уцепились бы. А эти? Только вон рулевой бескозыркой машет: приветствует. А ветер какой — шлюпку наполовину залило. Храбрецы! Любо смотреть на таких!
Шлюпку кидало, как щепку. А люди в ней, сидя по колено в воде, продолжали дружно работать веслами, и белые кружочки их фуражек двигались все враз вместе со взмахами весел. На корме, на коротком древке, развевался неизменный бело-синий флаг.
Покружив над шлюпкой, вертолет вернулся к тральщику и указал ему направление.
— Командир тральщика благодарит нас, товарищ капитан, — передал радист.
— Я это и без радио вижу, — сказал капитан. — Вон он как радостно забегал по мостику.
Пилот взял курс на свою базу. Оставалось самое трудное— в тумане разыскать аэродром и приземлиться.
Штурман вычерчивал на карте прокладку и качал затянутой в шлем головой.
— Товарищ капитан, — проговорил он наконец, — я все забыть не могу, как нас корабли предупреждали о гористом береге. Сами в таком переплете, а о других заботятся.
— Что же тут удивительного, лейтенант? — ответил пилот. — Это наше море. В любой шторм здесь найдутся друзья, которые предупредят тебя об опасности, помогут всем, чем могут. Чудесное море, лейтенант!
Доверие
В отсеках тишина. Нигде не бывает такого безмолвия, как на подводной лодке, когда «противник» совсем близко. Лодка крадется на большой глубине, всего в десятке метров от морского дна. Здесь ее труднее нащупать гидроакустикам «противника». Эхолот выключен. Командир и штурман впились глазами в карту, следя за отметками глубин: чуть прозеваешь— и корабль врежется в грунт. Переговариваются вполголоса.
Гидроакустик шепотом докладывает обстановку. Еле слышно командир отдает приказания рулевым. Тем достается. Рули переведены на ручное управление— так меньше шума. И матросам приходится изо всех сил налегать на непослушные, туго вращающиеся штурвалы. Работают без курток. От взмокших тельняшек валит пар. А вообще-то в центральном отсеке прохладно: дохнешь — теплый воздух изо рта дымится.
Григорий Пудов весь превратился в слух. Он отчетливо слышит все команды командира и вахтенного офицера. Слышит приглушенное гудение главных электродвигателей и тонкий то усиливающийся, то затихающий писк за бортом: вибрирует легкий корпус. Кажется Пудову, что он различает немолчный звон морской толщи и клекот винтов кораблей «противника». И у матроса замирает сердце, напрягается каждый нерв.
Пудов знает, что сейчас такое чувство испытывает каждый. В любом отсеке люди думают об одном: удастся ли проскочить опасный район?
У трюмного машиниста Пудова есть еще причина для волнения: он впервые несет самостоятельную вахту на станции погружения и всплытия. Который раз оглядывает матрос бесчисленные маховички и рычаги клапанов — свое обширное хозяйство. От блеска металла в глазах рябит. Только бы не перепутать…
Правда, в отсеке старшина 2-й статьи Селиверстов, командир отделения. Но тот все время пропадает в трюме. Когда лодка на большой глубине, за магистралями нужно следить в оба. Старшина еще в начале вахты предупредил Пудова:
— Считайте, что меня в отсеке нет!
Взглянуть на Пудова со стороны, можно подумать, что скучает матрос. Зябко ежится в своем ватнике, круглое лицо равнодушно, бесстрастно. А на самом деле Григорию петь хочется от радости. Ведь месяца два назад он и мечтать не смел, что ему доверят станцию погружения — ответственнейший боевой пост на подводном корабле.
Вот только вахта выдалась чересчур спокойная. Команд ему не поступает. Другие трудятся вовсю, а он только стоит и ждет приказаний. Но они обязательно поступят. И тогда главное — не перепутать клапаны. На всякий случай матрос тренируется. Закрыв глаза, тычет пальцем в маховички и определяет: это — цистерна быстрого погружения, это — главный балласт… Так учит старшина — чтобы и в темноте действовать точно.
Слышится серия распоряжений. Григорий косится влево. Боцман поворачивает оба штурвала горизонтальных рулей на всплытие. Палуба начинает слегка давить на подошвы, — значит, лодка идет вверх. Но почему командир, оторвавшись от карты, с такой тревогой уставился на глубиномер? Наверное, здесь дно круто возвышается. «Вот и мне работенка привалит», — догадывается матрос. Так и есть.
— Дать пузырь в среднюю! — отрывисто бросает капитан 3 ранга.
Григорий тянется к щиту, хватает рычаг манипулятора, но в это время кто-то с силой отрывает его руку и крутит соседний маховик.
Это происходит мгновенно. Старшине Селиверстову, который задержал руку матроса, некогда и слова проронить. Но больше слов говорит матросу поледеневшее лицо и гневный взгляд старшины. Григорию не нужно объяснять, что произошло бы, не подоспей Селиверстов: он чуть было не открыл клапаны вентиляции цистерн. Тогда лодка, приняв лишний балласт, пошла бы камнем вниз, ударилась о грунт. И еще — воздух, вырвавшийся из цистерн на поверхность, выдал бы лодку «противнику». Есть отчего схватиться за голову.
Старшина постепенно успокаивается. Но от станции уже не отходит.
Пудов не помнит, как дождался смены. После он долго ворочался на своей верхней койке и все не мог прийти в себя. Многое переворошил в памяти за эти часы.
Давно ли было собрание в кубрике береговой базы, которое решало судьбу матроса Григория Пудова. В то время о Пудове можно было сказать только плохое. И товарищи прямо говорили об этом — с возмущением, с болью.
Да, он не отличался усердием. Не потому, что лентяй. Просто ему казалось, что морская служба — не его призвание. Сердцем он оставался в родном колхозе. По ночам снились ему золотые поля, тракторы и комбайны, мирные степные закаты. И Вера — задумчивая девушка с фермы, та самая, которой он так много хотел сказать, но так и не осмелился. Написал ей уже с флота. Она ответила, что давным-давно ждала от него сердечного слова, и сейчас счастлива, и пусть он не печалится — она дождется его, один он ей люб.
Мечты о доме не покидали его в учебном отряде и потом, когда пришел на лодку. В ту пору Григорий был под началом другого старшины — Берестова, горячего, крутого. В первый же день старшина отчитал новичка за нерасторопность, а вскоре «всыпал» за плохую приборку. И пошло! Старшина нервничал, наказывал, а матрос не то и впрямь не разумел, чего от него хотят, не то из упрямства делал все наперекор. «Трудный матрос» — эта характеристика накрепко пристала к Пудову. А всем известно: несладко живется таким людям на флоте. От греха подальше, поставили Григория, чтобы меньше глаза мозолил начальству, в кормовой отсек мерить железной линейкой уровень воды в дифферентной цистерне. А тут среди торпедистов попался дружок по учебному отряду — разбитной, хитрющий парень. «Что, с песочком тебя драит старшина? А ты плюй на все, как я. Не пропадешь!»
Комсомольцы пытались пронять Пудова. Беседовали, критиковали на бюро, в стенной газете разрисовали. «Пускай, — успокаивал дружок, — ты, знай, меня держись, не пропадем».
Берестову надоело канителиться с неисправимым матросом, махнул рукой на него, чтобы настроение не портить. Но Григорий все чаще чувствовал на себе пристальный взгляд члена комсомольского бюро Селиверстова. Серьезного разговора между ними пока не получалось. И все-таки догадывался матрос, что интерес члена бюро к нему не случаен.
А Григорий все плелся на поводу у бесшабашного приятеля. И в конце концов сорвался. В тот день они с дружком шатались без дела по набережной. И вдруг дружка осенило. Даже ладонью по щеке себе хлопнул.
— Слушай, Жора! Мировая идея! Ты же в колхоз свой рвешься. Я тебе укажу надежный фарватер. Закати концерт по всем правилам — и в два счета окажешься под родной крышей. Мушкелем[1] мне по черепу, если держать тебя станут!
Видно, совсем ослеп Пудов. Сотворил «концерт». Заявился на корабль навеселе, да еще с опозданием.
Это переполнило терпение товарищей. Поведение Пудова разбиралось на собрании личного состава корабля. Чего только не пришлось выслушать Григорию! Да, друзья говорили, что ему не место в их коллективе, что он позорит их, позорит корабль. Кое-кто требовал и под суд отдать. А дружок сидел в углу и стрелял в Григория косым взглядом, в котором были и панический страх и мольба: «Не выдавай!» Пудову не до него. Сидел понуря голову и проклиная себя на чем свет стоит. На кого променял он товарищей? Чем больше его ругали, тем сильнее он чувствовал, как дороги ему эти люди. Он делил с ними тяготы долгих походов, горести и радости, вместе с ними мерз в холода и изнывал от жары, не спал сутками и уставал так, что едва хватало сил дотащиться до койки. Эти люди ругают его, но сколько раз они выручали в трудную минуту, а разразись беда, они — Григорий убежден в этом — себя не пожалеют, чтобы спасти его. Ведь это подводники, которых сама служба заставляет делиться с товарищем всем, даже последним глотком воздуха. Почему он раньше не ценил их дружбы? Теперь ему не простят.