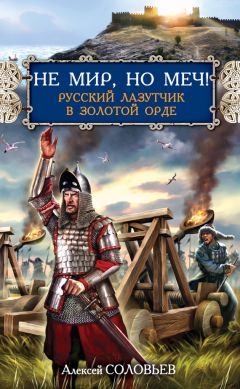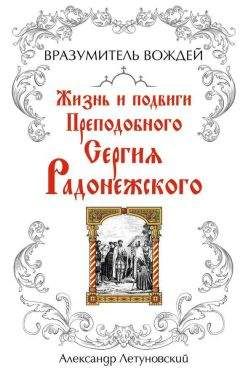Алексей Соловьев - Не мир, но меч! Русский лазутчик в Золотой Орде
Глава 7
И вновь Кревский замок принимал Кейстута. Вновь братья были вдвоем. Вновь горел камин, пылали факелы на стенах, стол был накрыт для ужина на двоих. Вновь Ольгерд зазвал любимого брата поохотиться в пуще, чтобы совместить страсть к мужской забаве с самым насущным, что его волновало — борьбой за власть.
— Если б я знал, что отец посадит в Вильно Евнутия, я б не спешил обратно из-под Можайска, — зло вымолвил Ольгерд, отрезая сочный кус от зажаренного бока косули. — Если он видел в своем младшем сыне будущего Великого князя Литвы — то это его самая большая глупость! Евнутий — тряпка, не ему собирать наши земли в единый кулак!
— Про отца ты зря так сказал, — спокойно возразил Кейстут. — Он верил, что мы не перегрызем друг другу горло, закопав его. Он просто роздал сыновьям уделы. Но ты дважды прав, брат! Первое — Евнутию не место в Вильно, столицу должен занять достойный. Второе — ты хорошо сделал, что привел свою дружину из-под Можайска целой, без больших потерь. Она нам нужна будет здесь, и очень скоро!
Высокий мощный рыцарь замолчал и переключился на мясо. Ольгерд, сам никогда не пивший вина, неожиданно потянулся и налил брату венгерского. Кейстут улыбнулся:
— Ты будешь опытным правителем, брат! Порою так и нужно: преступить через себя, уластить противника, чтобы потом показать ему свою волю и мышцы! Позволь и мне поухаживать за тобой!
В соседний кубок полился густой темно-фиолетовый черничный морс. Оба хохотнули, скрестили бокалы, выпили.
— Ты же знаешь, что я никогда не обнажу против тебя меч, на котором поклялся в верности, — вымолвил Ольгерд.
— А ты знаешь, что в кресле правителя Вильно и великой Литвы я вижу только тебя, — ответил Кейстут. — С Евнутия будет довольно удела в кормление. Скажем… Заславля!
— Мне бы не хотелось идти во власть через кровь, брат! Я не ордынец, я хотел бы соблюсти веру отца в нас. Но… ты сказал про мою дружину?! Против кого нам предстоит ее повести?
Кейстут был рыцарем до мозга костей. Слово «честь» для него никогда не было пустым звуком. Он прекрасно понимал чувства, владевшие старшим братом. Но он уже давно вынашивал планы на ближайшее будущее.
— Не думаю, что против братьев. Монтвид, Кориат и Любарт вполне довольны тем, что имеют. Возможно, придется помочь Любарту против венгров, они очень уж хотят поскорее поставить свой крест на луцких и волынских церквях. С Евнутием биться не будем, я возьму Вильну с наскоку, когда мои слухачи повестят об удобном моменте. Остается Наримунт! Ему мы оставим его Пинск, но заставим отвернуться от русского Пскова. Нужно, чтобы плесковцы призвали на княжение нас с тобой!
— Зачем?
— Только через Русь я могу доставать брони для войны с Орденом. Ты же знаешь, что немцы запретили Риге продавать нам оружие от свеев. Чтобы бить закованных в железо крестоносцев, нужно одеть в него моих жмудинов!
Кейстут сделал еще один большой глоток и продолжил:
— Ты ведь не изменишь своего решения расширять Литву за счет Руси, брат?
— Если ты прикроешь меня с севера.
— Тогда нам нужно начать с Пскова и Новгорода — развести их! Поможем Пскову выгнать за их земли тевтонов — закрепимся в нем! Ты крещеный, тебя примут в князи. Ну а дальше — Новгород и Смоленск! Вот где нужны будут твои ратные и латные! И помни нашу клятву: делить все добытое пополам! Еще раз повторю: мне нужны брони и добрые мечи! Очень много…
Пройдет немного времени, и слова, произнесенные поздним вечером, станут явью. Ольгерд займет великокняжеский трон. Между Псковом и Новгородом стараниями двух литовских князей ляжет глубокая трещина. Начнется активная экспансия Литвы на восток, и этот пока еще православный сосед владимирской Руси станет для нее страшнее исповедующей ислам Великой Орды…
Глава 8
Кадан не мог объяснить сам себе, отчего ему так нравилось на Руси. Эти широколистные дубравы, что покрывали окские берега и сбегали зелеными змейками к воде. Эти луга, на которых вырастала густая и сочная трава, которую и смерды, и холопы, и отпущенные для этого дела со службы дружинники дружно валили горбушами и литовками. Жонки и девки старательно ворошили ее под горячим солнцем месяца липеца, катали валки, метали копны, чтобы к серпеню, когда пора будет переходить к жатве хлебов, уже стояли в полях громадные стога ароматно пахнущего сена, вселяя радость в сердца хозяев и даря уверенность, что зимой скотина будет сыта и одарит мясом, молоком, потомством.
Ему нравилось вечерней порою, когда возвращался из объезда деревень, сел и хуторов, когда нукеры садились ужинать и петь после ковша забористого меда гортанные песни степи, сесть на коня и проехать неспешно пару-тройку верст вверх или вниз по реке. Он жалел, что не мог объясняться по-русски со встречными простолюдинами, опасливо жмущимися к обочине и косящимися на татарина. Это, правда, не помешало несколько раз овладеть какой-то разбитной юркой молодухой, первый раз соблазнившейся на ало-красные бусы, а затем по доброй воле отдававшейся горячему парню в тех же сладких вечерних копнах. Может быть, успела овдоветь, а может, была полонянкой, никем не выкупленной и влачившей свой жребий без должного мужского внимания.
Понятно, почему в эти поездки он обычно отправлялся один: вздохи и признания не нуждаются в лишних зрителях. Сотник Камиль не раз предупреждал его о возможной опасности нападения лихих людишек, на что Кадан лишь отмахивался. Еще несколько дней, и они снимутся из этих мест. Сбор выхода подходил к концу, оставалось лишь продать в Коломне все, что взято вместо серебра, завязать тороки и направить коней к югу. Круги воска, туеса меда, прочные русские веревки из длинных серых волокон, льняные сукна — все это было добротно и нужно в степной жизни, но хан велел привезти только серебро! Как можно больше серебра… Как можно быстрее…
Из стены прибрежных ивняков на него вывернулся другой всадник. Явно русич, в домотканой длинной льняной рубахе. Они сблизились, и Кадан опешил! Он увидел самого себя, натянувшего поводья и насмешливо глядящего на него, степного нойона!
— Сто-о о ой-й! — прорезал вечернюю тишину татарский возглас. В ответ на родном Кадану языке прозвучало грубое ругательство. Человек-призрак резко заворотил коня, ожег его плетью и понесся по накатанной сотнями тележных колес колее.
В мгновение ока татарин сорвал со спины лук. Наложил стрелу, прицелился. Тугая тетива пропела, жало ударило конного меж лопаток, но отскочило, словно от заговоренного. Другой бы суеверно отказался от погони, но только не Кадан! Любой ценой он захотел догнать, набросить аркан, посмотреть еще раз в глаза дерзкого и привезти его, связанного, на стан. Конь под ним был не ровня русской кляче, годной лишь для сохи, и в том, что гоньба будет недолгой, тысячный не сомневался.
Зеленые деревья и кусты по обе стороны широкой тропы слились в две широкие зеленые полосы. Верный Коназ все набавлял и набавлял ход, и хозяин уже начал наматывать на руку черные петли аркана, как вдруг…
Прочное вервие, до поры до времени лежавшее на земле, взметнулось вверх, прошло над злобно прижатыми ушами коня и зацепило человека за шею. Страшная сила швырнула Кадана назад, вырывая из седла. Он пал, потерял сознание и уже не видел и не ощущал, как пятеро выскочили из-за вековых кленов и навалились на пленника, затыкая рот и выкручивая назад руки. Иван перехватил Коназа, отработанным еще во времена жизни у Торгула движением набросив аркан на горячего туркмена. Андрей развернулся, присоединился к товарищам. Он не мог слышать торопливых распоряжений бывшего за старшего Федорова. Русичи поспешно заровняли ветвями ольхи следы, вскинули плотно замотанное в кошму тело Кадана и, примотав к его же лошади, поспешили прочь.
Очнулся татарский тысячный уже в большом добротном шалаше. Вечерние сумерки еще текли сквозь вход, позволяя рассмотреть изнутри временное жилище. Столь разительно похожий на него парень старательно примерял его же, Каданово, одеяние, оглаживая складки и словно пытаясь ощутить его родным. Бородатый мужик с подстриженной «под горшок» головой что-то делал в темном углу. Снаружи доносились оживленные голоса, шум листвы, отдаленная перекличка-карканье нескольких ворон. Шею жгло от конопляного ожега, голова нестерпимо ныла, горло требовало хотя бы глоток воды. Кадан шевельнул затекшими руками и застонал.
Двойник оторвался от переодевания, нагнулся, внимательно глянул в глаза татарину:
— Пить хочешь?
Звуки родной речи вновь заставили слугу Джанибека вздрогнуть.
— Да!
Парень поднес ко рту небольшую продолговатую тыквенную флягу и, глядя на пленника с непонятным сожалением, направил тонкую струйку холодной ключевой воды меж жадно раскрывшихся губ. Второй также бросил свое занятие и присел рядом на конское седло.