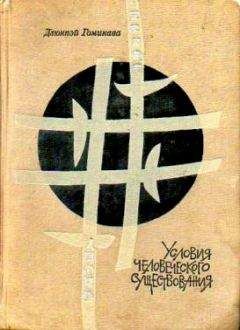Вильям Александров - Чужие и близкие
— Давай, кушай, — говорит Махмуд. — Кушай.
Сосу урюк и чую, как из-под языка по всему телу разливается живительная истома. Отпускает тошнота, и в глазах яснеет.
— Давай, кушай, — решительно говорит Махмуд, — все кушай.
Он ставит на машину мешочек с отборным, искристым от выступившего сахара урюком и обводит всех нас укоряющим взором. Первым тянусь к мешку я. Уж очень сладкий урюк. Потом тянутся остальные. Мы запускаем пальцы в мешок, и руки наши там встречаются. И я вижу, как вспыхивают радостным светом глаза Махмуда.
* * *Поздно вечером, когда мы свалили в кучу инструмент и стали гасить свет в пустом цеху, в дальнем проходе показался Бутыгин. Он остановился там, расставив свои ноги, м долго так изучающе смотрел на нас, словно увидел впервые. Мы тоже застыли, не зная, что теперь делать — тушить свет дальше или, наоборот, зажигать опять. В его позе было что-то театрально-торжественное, и нам показалось — угрожающее. Мы стояли с тревожно бьющимися сердцам и — что-то он сейчас выкинет. Потом уже мы рассмотрели, что рука у него была обмотана по локоть белым бинтом и красовалась на груди, подвешенная на марлевой повязке.
— Зайдите все ко мне, — сказал он громко, без всякого выражения, и эхо разнесло его слова по пустому цеху, словно это из железного репродуктора послышался автоматический мертвый голос.
И вот мы все четверо стоим в нашей цеховой клетке, а Бутыгин расхаживает перед нами со своей забинтованной рукой на груди. Лицо у него торжествующе злое — ну, сейчас он выдаст! И в то же время я замечаю, что он уже не кривится от боли — видно, вскрыли ему в поликлинике палец. И видно, он даже доволен, что теперь у него такая эффектная, забинтованная рука — можно принять за раненого.
Он расхаживает перед нами взад-вперед: шаг вправо, шаг влево — больше клетушка не позволяет — и чувствует себя, по-видимому, полководцем, пострадавшим из-за нерадивых своих солдат. Ему в этом перевязанная рука здорово помогает.
— Так что, значит, перед начальством меня осрамить решили?!
Мы стоим и молчим. Синьор опустил голову. Махмуд ест Бутыгина широко раскрытыми… глазами — он, видно, не совсем понимает, о чем речь. Я стою с печальным, траурным лицом — мне кажется, это больше всего приличествует моменту — все-таки только что ему резали руку, да и обидели ни за что человека… Миша сопит носом. Мне кажется, он сейчас ляпнет еще что-нибудь похлеще. Я тихонько толкаю его плечом.
— Опозорить, значит, решили?! Бутыгин, мол, ящики ворует… А в цеху это, мол, само собой все делается — моторы устанавливаются, подводка появляется?! Все это само собой, он тут ни при чем. Так, что ли?!
— Сказал, как было, — буркает Миша. — Никто не позорил… Ломать ящик — тоже работа, тоже делать надо…
— Вот именно! — Бутыгин приподнял забинтованную руку, и лицо его жалостно сморщилось. — Опалубку тоже делать надо. А делать некому. Начальник вам помогает, а вы ему злом платите… — Он прошелся взад-вперед. — Для кого заботишься! Для кого достаешь все это!
Он полез под стол и вдруг здоровой рукой стал вышвыривать оттуда какие-то белые связки. Одна, вторая, третья… Связки летели к нашим ногам, мы стояли, глядели, не верили своим глазам — новенькие ботинки из белой сыромятной кожи на деревянной негнущейся подошве. Они связаны попарно и сверкают шляпками гвоздей, которыми обита по кругу кожаная тесьма, прижимающая верх к деревянной колодке.
Первым очнулся Миша.
Вот это да! — сказал он. — Молодец Гагай. Добился все-таки…
— Гагай! Гагай! — огрызнулся Медведь. — Поглядел бы я на вас, коли сам не пошел в мастерскую. Мотор у них сгорел — ясно?
Конечно, ясно. Бери ты первый, Славка. У тебя хуже всего…
Я наклоняюсь, беру резко пахнущие сыромятиной и свежей древесиной ботинки, и меня вдруг охватывает необыкновенное ощущение. Мне кажется, что все это снится. Мне трудно представить, что у меня будут сухие ноги. Я уже забыл, как это бывает. Мне кажется, что я не смогу привыкнуть. Сбрасываю свои электрические лохмотья, разматываю мокрую тряпку и долго растираю ноги, прежде чем влезть в ботинок. Ребята приносят мне откуда-то сухой бязевый лоскут — видно, взяли у шорников, — и я обматываю сморщенные ступни. Теперь надо вдеть их в ботинок. Надеваю. Зашнуровываю. Шнурки тоже кожаные. Просто сыромятные обрезки. Становлюсь на ноги. Я, кажется, стал выше. Ну, конечно, подошва сантиметра три толщиной. Сделал шаг — и чуть не упал. А ходить-то в них надо учиться. Перекатываешься, как на качелях, ведь подошвы не гнутся! Но это ничего. Это даже здорово. Главное, ногам теперь тепло и сухо. Просто не верится… Рот у меня против воли растянут до ушей и никак не собирается… И ребята, глядя на меня, смеются. Вот только Бутыгин стоит в своем углу, и с лица его не сходит кислая гримаса. Или это только так кажется?..
* * *Домой я пришел совсем поздно. Мы ходили «обмывать» новые ботинки. Ридом с нашей огромной столовой есть итеэровский зал. Вот туда-то мы заявились, торжественно предъявив вахтеру итеэровские карточки — их нам вместе с ботинками выдал Бутыгин. Правда, карточек было всего две, но Бутыгин заявил, что и за них мы должны сказать великое спасибо — их выдают только самым отличившимся.
— Меняться будете, — сказал он нам. — День — один, день — другой.
Но мы не стали меняться, пошли все вместе. Сложили их так, что вышло вроде четыре, — предъявили контролеру у входа, потом взяли две порции итеэровского обеда, добавили нашей обычной каждодневной затирухи (ее мы принесли с собой в котелке), высыпали в тарелку махмудовский урюк и еще кишмиш из карманов Синьора — и у нас получился пиршественный стол. А если еще учесть, что здесь давали не затируху, а борщ, где вместе с репой попадалась настоящая картошка, а на третье был твердый кусок мамалыги, политый урючным киселем, — то легко представить наше блаженство!
— Это да! — восклицал Синьор, — не помню, когда последний раз вот такой стол видел. В Польше мабудь… И то не помню…
— Ты ж сам рассказывал — день рождения был.
Так то в тридцать восьмом. Еще до войны. Восемнадцать лет мне спраздновали.
— Расскажи, Синьор, — просит Миша и перемигивается со мной.
Ну чего рассказывать… На столе было все, что только можно. Пшишли много людей… друзья нашего дома, потом мои друзья — парни и девушки…
— А у тебя была девушка, Синьор?
— Была.
— Хорошая?
— Конечно, хорошая. Умная. И очень, ну, как это, ласкавая.
— Ласковая?
— Ну да. Очень нежная.
— Она тоже там была?
— Конечно. Отец ее очень любил. Это дочка одного нашего старого мастера. Она вообще почти что невестой моей считалась.
— Постой, Синьор, что-то ты заливаешь. Твой отец ведь был капиталист, владелец фабрики, так?
— Ну, так.
— Как же он мог тебе разрешить встречаться с дочкой простого мастера?
— Во-первых, то был не простой мастер, то был очень хороший мастер.
— Ладно, пусть хороший, но ведь он только мастер, он же ничем не владел, никаких богатств у него не было?
— Нет, никаких. Кроме только его собственные руки, и еще кроме той дочки.
Вот видишь. Как же отец мог тебе разрешить жениться на ней?
— Не знаю. Но он очень любил Этельку, очень любил… Мы с ней вместе в школу ходили, и отец всегда сам ее приглашал к нам… — Синьор опустил голову, и мне показалось, что нижняя губа его дернулась. — Отец им всегда помогал, как мог.
— Ладно, хватит, ну чего ты пристал к человеку! — вмешался Миша. — Разрешил не разрешил… Расскажи лучше, чего вы ели.
— Все там было: и апельсины, и шоколад — сейчас уж не все вспомнишь… — Синьор опять загрустил и вдруг сказал:
— А они ее убили, я знаю. В концлагерь отправили и там замучили — я знаю.
— Откуда ты знаешь?
— Тот знакомый сказал. Ее вместе с отцом отправили. Они были евреи…
— Ну, это еще ничего не значит… — успокаиваю я его. — Сколько людей попало в лагери — многие ведь бежали потом, спрятались. Может, она в партизанах — откуда ты знаешь?
— В партизанах… — повторяет он без всякого выражения. Чувствуется, что эта мысль очень мало утешает его. Уж слишком все это маловероятно.
— Ладно, хватит, — опять вмешивается Миша. — Не для того собрались. Ну-ка, глядите, — он достает из-под стола бутылку с какой-то мутной красноватой жидкостью и сдвигает вместе наши стаканы.
— Чего это? — интересуется Махмуд.
— Так. Чепуха. Садово-виноградный напиток.
Он наливает всем по трети стакана. Махмуду чуть меньше. А Синьору чуть больше.
— Ну, — говорит он, — за победу! За смерть фашистам!
— За второй фронт, — говорит Синьор. — Я слышал радио — Черчилль выступал. Скоро будет второй фронт.
— Ладно. За второй фронт, — соглашается Миша, — ну!..