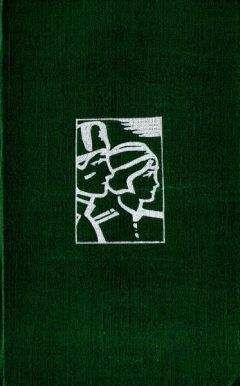Аркадий Минчковский - Мы еще встретимся
Домой забежал на минутку.
Так хотелось провести вечер с друзьями! Еще по пути позвонил Берману, просил собрать кого можно, обещал принести чего-нибудь, чтобы отметить последнюю встречу.
Когда он уходил из дому, Елена Андреевна не плакала. Она молча поцеловала сына и только тяжело вздохнула. Владимир Львович обнял Володьку, потом пожал ему руку и сказал: «Смотри…»
Не очень-то было понятно, что хотел этим выразить отец.
Расстроила всех старая Аннушка. Она вдруг громко, по-бабьи, разревелась: «Ой, куда же ты уходишь, Володечка?.. Куда же ты?..»
В общем, Володька не знал, что ему делать, переминался с ноги на ногу.
Дома он не сказал, что его отпустили до утра, и ночевал у Бермана. Вечер провели вдвоем. Больше никого отыскать не смогли. Лева сказал, что многие из девушек на окопах. Его на рытье укреплений не послали. Он зачислен в команду ПВО. Известно было еще, что тихая Валя Логинова первая ушла в сандружинницы и что Майя Плят уехала с каким-то институтом в глубокий тыл.
Вдруг Лева сказал: «Долинина, кажется, тоже уезжает с родителями». — «Это меня мало интересует, — стараясь казаться как можно равнодушней, заявил Володька. — Впрочем, я так и думал, что уедет. Да, конечно, куда-нибудь подальше».
Лева ничего не ответил. Он был иного мнения о Нине, да и в безразличный тон Ребрикова верил мало.
Потом он читал стихи, которые написал в последние дни. В них говорилось о молодости, о том, что, несмотря ни на что, будет жить вечно, что дружба — это то, чем живет человек.
Ребриков устал и стихи слушал плохо, хотя и хвалил их, чтобы не обидеть товарища. Потом Лева поднял недопитый стакан с вином, посмотрел на друга и сказал: «Выпьем за то, чтобы еще встретиться и чтобы я почитал стихи, которые тебе будет не скучно слушать». — Он по-доброму улыбнулся.
Ребрикову стало неловко. Он тоже поднял стакан и, сам не зная почему, расчувствовался, обнял Леву, поцеловал его. Потом они вспоминали курилку, разные чудачества товарищей, встречу Нового года. Казалось, что все было очень давно, много лет назад.
Было уже двенадцать, когда, надежно заведя будильник, уснули вдвоем на широком старом диване.
Только в час дня двинулись из ворот училища курсантские колонны.
Сборы были долгими. Связывали и грузили последнее, что нужно было взять с собой. Потом выстраивались во дворе, проверяли снаряжение. Командиры давали последние наставления. Роты долго равняли и подтягивали.
Наконец ворота широко распахнулись. Грянул оркестр. Уличное движение застопорилось. Растянувшись на всю улицу, колонна двинулась в сторону Невского проспекта.
Сразу же по сторонам за курсантами пошел народ.
Никто из тех, кто провожал строй, не сомневался сейчас в том, что училище уходит на войну. Курсанты же старались не очень-то глядеть по сторонам. Становилось как-то не по себе от того, что их, здоровых, молодых, увозят, вместо того чтобы оставить здесь защищать город.
Возле Литейного задержались, пропуская колонну добровольцев, направлявшихся к Витебскому вокзалу. В этот момент к взводу, в котором шагал Ребриков, подошла сухонькая старушка. Она протянула ему только что купленный свежий батон:
— Берите, соколики. Поешьте, родные, на дорожку…
Курсанты стеснительно мотали головами, отказываясь принимать угощенье. Старушка стояла растерянная, с протянутым батоном. Выручил подоспевший в этот момент батальонный комиссар.
— Ну что вы, хлопцы, отказываетесь? — крикнул он. — Это же нам мать от души.
Батон был разломлен и сразу исчез.
На вокзал их не повели. Колонна свернула по Литовской на товарную станцию.
В вагоны грузились повзводно. По обе стороны распахнутых дверей были построены двухъярусные нары. Посредине — скамьи, стол, на котором сейчас же принялись забивать «козла».
Эшелон отошел только в конце дня. Грузили машины, получали сухой паек. Потом ждали, пока освободится путь.
Было тесно. Взвод с трудом размещался в четырехколесной теплушке. Кое-кто уже храпел, забравшись в глубину нар.
Ребриков с Томилевичем стояли в дверях, опершись на тяжелую доску, преграждавшую вход в вагон. Курсанты молчали. Медленно уплывали неприветливые дома городской окраины, скучные склады, закопченные депо.
Поезд настойчиво пробирался между путей, заставленных эшелонами, ожидавшими отправки. В нетерпении шипели паровозы. Длинные составы были забиты людьми и станками, — эвакуировались оборонные заводы. Задрав жерла к небу, ожидали часа встречи с врагом зенитные пулеметы. Говорили, что дорогу уже где-то бомбят. По шпалам бежала женщина с чайником. Она что-то отчаянно кричала и размахивала свободной рукой. Вероятно, эшелон, в котором она должна была уехать, ушел, может быть, с ее детьми.
Поезд убыстрял ход, сбегались и исчезали рельсы по сторонам. Скоро замелькали телеграфные столбы, мимо поплыли опустевшие дачи, маленькие полустанки, желтые домики путевых обходчиков…
Эшелон шел на восток.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
1
В Канск театр прибыл в конце августа.
Город не понравился Нелли Ивановне. Небольшой, холмистый, с множеством белых облезлых церквей и деревянных домов, с круглым садиком на центральной площади, откуда лучами разбегались мощенные булыжником улицы. После Ленинграда он казался тоскливой провинцией.
Помещение городского театра, где труппе предстояло провести зиму, оказалось маленьким, двухъярусным, мрачноватым. Старый потертый занавес, на котором был изображен город с птичьего полета, прикрывал неглубокую сцену. Долинин поморщился, но снимать занавес не решился, — боялся, обидятся горожане.
Квартиру ему предоставили в центре, в трехэтажном доме специалистов. Потолки в квартире были низкие. Ванная тесная и отапливалась дровами. Первые дни Нелли Ивановне было как-то особенно грустно вспоминать любимый переулок, который ежедневно наблюдала она по утрам, поднимая шторы. И, глядя из окна временной квартиры на редкие липы улицы Луначарского, Нелли Ивановна вздыхала, думала: «Это война».
Спектакли начались через две недели. Открывали сезон комедией.
Неожиданно театр оказался переполненным. В зале преобладали люди в военной форме, — в городе были госпитали, военные училища, академии.
Нелли Ивановна играла веселую испанскую девушку, роль была знакомая, много раз игранная. Нелли Ивановна знала, когда в зале вздохнут, когда засмеются.
На сцене было прохладно. К четвертому акту она уже немного охрипла, начала нервничать. Но зрители ничего не заметили, долго и дружно аплодировали.
Известия с фронтов приходили безрадостные.
Армия повсюду отступала. Каждое утро радио по-прежнему сообщало об оставленных городах. После сводки шли эпизоды. В них рассказывалось о подвигах красноармейцев. На этом месте Долинин обыкновенно выдергивал вилку репродуктора и говорил: «Лирика».
Однажды за утренним чаем, прочитав какую-то статью, он сердито отбросил газету, подвинул стакан, сказал:
— Не понимаю, где наши силы… Что же будет дальше?
Нелли Ивановна настороженно взглянула в его сторону:
— Что же ты считаешь, у нас может не хватить сил?
— Не знаю, — сказал Долинин. — Не хотел бы так думать. Но на вещи надо смотреть реально. Ленинград уже в кольце, и удержать его, пожалуй, невозможно…
— Ничего подобного! — почти крикнула Нина, она была тут же. — Не быть им в Ленинграде, не быть!
Она резко отодвинула стул и выбежала из комнаты.
— До чего она все-таки невоспитанна, — сказал Долинин, глядя куда-то в сторону.
Нелли Ивановна вздохнула.
— Знаешь что, — сказала она тихо, — мне кажемся, Нина права — этого не может, не должно быть.
Больше они не говорили. Долинин задумчиво смотрел в пустой стакан.
Если бы Нину в этот день спросили, почему она думает, что Ленинград не сдадут, она не сумела бы ответить. Каждый день она слушала по радио ленинградцев. Они говорили взволнованно, твердо, обещали не сдать города, чего бы это ни стоило.
«Нет, нет, — думала она. — Этого не будет… Этого просто не может быть…»
Давно Нина не садилась за рояль.
Консерватория теперь была далеко. Впрочем, Нина и не жалела о том, что не поступила.
Напрасно Нелли Ивановна радовалась, что в квартире, которую они заняли, стояло пианино, напрасно вызывала старенького настройщика, — Нина не подходила к инструменту.
Долинин сказал:
— Зто все нужно пережить. Придут снова нормальные времена.
Он предложил оформить Нину кассиршей или хотя бы билетером в своем театре. Но Нина решительно отказалась.
С утра она уходила из дому, бродила по улицам города. Иногда встречала знакомых, тоже перебравшихся сюда, нехотя здоровалась, проходила мимо. Сидела на скамейках круглого сквера. Оттуда была видна широкая большая река. Сейчас была осень, и река сильно обмелела. Пароходы шли медленно, лавируя по фарватеру.