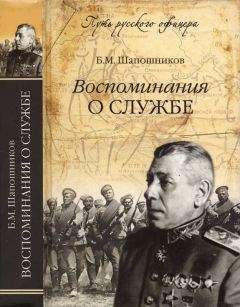Илья Васильев - Александр Печерский: Прорыв в бессмертие
«А сможем? — спросил кто-то. — Мне не случалось держать
Оружье в руках еще в жизни! И многим здесь!..» — «Сможем!» —
Ответил он твердо, уверенность в души вселяя.
Он все проработал, не думал уже ни о чем
Другом, эта страсть, все иное внутри притупляя,
Владела им полностью. Лагерь был не обречен —
Он верил отчаянно в это — есть способ прорваться.
Вкруг лагеря мины рядами, но будут взрываться
Лишь камни, которые станем бросать перед тем,
Как ринуться в лес. Он еще и еще раз — тих, нем —
Просчитывал время и действия. Слушал доклады
Других заключенных тайком, за охраной следил —
Прикидывал: сколько на вышках, у склада верзил,
В какой час оружье сдают, как сменяют наряды.
Он жил, жаждал чуда, боролся со смертью — с немецкой
Ее инкарнацией, планов готовил ей слом.
И всей его группой владел не задор молодецкий,
А схватка за жизнь вперемешку с борьбою со злом.
И всеми друзьями владела чудесная сила —
Он видел — все были смиренны, храбры и красивы.
И он — лейтенант Красной Армии, русский еврей
Возмездия акт сотворял для нацистских зверей.
И знал: на него все надеются — знать, ошибиться,
Запутаться в главном, людей подвести он не мог!
И русско-еврейский, душой ощущаемый, Бог
Поможет — он чуял. И долг заставлял торопиться.
В аду — в Собиборе, где каждый из близких видался,
Быть может, в сегодняшний вечер последний разок,
Он, если так можно без дрожи сказать, наслаждался
Ребятами — теми, кого он там встретил! — Высок
Так был их порыв, отношенья нежны и небесны
Так были; здесь люди, стоящие на краю бездны,
Друг друга ценили — как мало кто в мире ценил
Друг друга, и эту любовь он навек сохранил.
Всю жизнь он потом добивался таких отношений
И воссоздавал, ретранслировал эту любовь,
И Люка, Леон и другие к нему вновь и вновь
Во снах приходили, мир делая чуть совершенней.
И вот наступил день назначенный! Утро настало.
С утра лагерь как-то особенно был напряжен.
Предчувствие в воздухе громких событий витало.
Все ждали, готовясь. Все знали, что кто-то лишен
Сегодня из них будет жизни, наверно, но души,
Взволнованы ветром спасенья, метались — аж уши
Закладывало, будто скорость набрала Земля
Другую… Старт!.. Первый эсэсовец, как с корабля
На бал, прискакал примерять свой мундир на кобыле
На белой. Одели его. Любовался собой
Пока он, уже заключенный стоял за спиной:
Вздохнул — и огрел палача топором, а добили
Все вместе его. Саша взял пистолет у нациста.
Кобылу же от мастерской отвели далеко.
«Давайте другого! Пока всё по времени — чисто!» —
Командовал Саша. Он знал: многим здесь не легко
Рубить топором или резать ножом человека,
Пусть даже садиста, убийцу родных. В эту реку
Ему было проще ступать — он уже воевал,
Лил кровь, хоронил сослуживцев, стрелял, убивал
И яростью был благородной пропитан до дрожи.
Но все получалось пока (чтоб не сглазить)! Один
К ним шли за другим палачи. Он считал и следил
За тем, как меняются смертно мучителей рожи.
Он был хладнокровен. Все двигалось по распорядку —
Девятый, десятый гад… Скоро пора выступать.
Сейчас всё по плану, но дальше придется несладко —
С оружием склад захватить и охранников снять
С постов, с ворот, с вышек — задача, увы, непростая.
Но если поймаем кураж и сорвемся, как стая,
То вдруг и получится. Все были так хороши,
Так слаженно действовали, так его от души
Все слушались, но и поддерживали взглядом, словом
И делом, что он был обязан свой план довести
До точки — всем лагерем, путь пробивая, уйти, —
И быть к неудачам на каждом этапе готовым.
Не всех палачей удалось заманить — кто уехал
Из лагеря, кто был убийствами занят, а кто
Почуял какой-то подвох. Был открыт счет помехам.
Но медлить нельзя, надо бой дать открытый, а то
Спохватятся — и преимущество мы потеряем.
Сигнал… крики… выстрелы… ругань охранников с лаем
Собак… небо белое… Лагерь сорвался с цепи.
Охранники сообразили — вопи не вопи —
И взяли в кольцо склад с оружием. Не получилось
Его захватить. А толпа уж стремилась, как рой.
Ребята стреляли оружьем отобранным, бой
Был злой и неравный. Ворота открыть не случилось.
Но несколько сотен людей, зараженных порывом
К спасенью, к свободе, к борьбе против смерти самой,
Бежали с презреньем к летающим пулям и взрывам
И рвали колючку телами и мины собой,
Делясь на куски, обезвреживали, расчищая
Дорогу для тех, кто шел следом за ними, прощая
Оставшихся после всех этих событий в живых…
Ушел он последним из лагеря. Он не привык
За время войны уже паниковать. Убегая,
Увидел нациста — кому пень колол — на крыльце.
Тот был не таким, как всегда, — измененным в лице.
И Саша стрелял в него, но не попал. И ругая
Всю жизнь себя страшно за промах, он помнил, как этот
Гад мальчика малого камнем забил на глазах
У матери. Мать захлебнулась кровавого цвета
Слезами. Был суд над ним в семидесятых годах.
Но так он и не был наказан, и умер в постели
Своей… Мины гулко взрывались, и пули свистели.
И Саша бежал, небольшой за собою отряд
Ведя. И бежали они день и ночь всю подряд.
Поскольку прикинул он, что отойдут после шока
Фашисты к утру, и поэтому нужно свалить
Как можно подальше, и Бога по ходу молить,
Чтоб Бог им помог Буг увидеть до этого срока.
Спешили они, он все спрашивал — видел ли кто-то
Леона и Люку и прочих, ушли ли они?
«Не видели? Точно?» — пытал он в десятый и в сотый
Раз тех, кто бежал с ним в ту ночь. «Саша, нет! Извини!» —
Твердили они, на бегу пожимая плечами.
И он, никого не коря, не впадая в отчаянье,
Надеялся, что убежали дорогой иной
И смогут уйти, схорониться. «Не всем же со мной
Быть рядом, ведь маленькой группой спастись много проще!»
Потом тыщи раз он на это себе возражал.
Но нынче бежал, вел людей за собой и бежал,
Леса позади оставляя, опушки и рощи…
Бежал он… Гостиница! Вот она! Он отдышаться
Не мог. И спросила дежурная: «Ну? Вы к кому?» —
«Я к Люке…» — сказал он, почуяв, что стал нарушаться
Ход времени. Злобно воскликнула: «Я не пойму!
В какой направляетесь номер?» — дежурная. «Вот он!» —
Он записи ей протянул. И она — глаз наметан —
Его пропустила, чуть сжалившись над стариком.
Ему показалось, что взгляд ее чем-то знаком,
Но он уже мчался по лестнице, не узнавая
Себя. И когда постучал он и, дверь отворив,
Увидел там даму, и, глаз глубиной покорив,
Ему улыбнулась она, он спросил: «Ты живая?» —
Опять. И опять прикусил свой язык неуемный.
«Да ты не спеши, проходи, раздевайся, садись!» —
Сказала она. Осмотрелся он. Номер был скромный,
Но для иностранцев — уютный. «Сперва наглядись, —
Воскликнула Люка, — потом я тебе все открою!»
Молчали они. Он ее не узнал, но порою
Казалось, что в ней оживала та Люка на миг,
Хоть он и не помнил лица. Червь сомненья проник
Почти в его душу, но стала рассказывать дама
О том, что она убежала, прорвавшись, в тот день,
Что после скитаний в одной из глухих деревень
Сумела спастись она — польских, священник был там — и
Он спрятал ее, перекрасил ей волосы в белый
Цвет польский, а после крестил ее — не было сил
Противиться этому. Был он хороший и смелый —
Собой рисковал, укрывая ее. Попросил —
Она согласилась, хотя и еврейского Бога
Не бросила, в сердце оставила верности много
Ему, но частенько себе задавала вопрос:
«Где был Он, когда убивали евреев?» От слез,
Быть может, себя втихаря разрывал Он на части?!
Но ей Он помог. Он и Саша. И все, кто спасен,
За Сашу молиться должны. И когда она в сон
Приходит к нему, то живее живых всех от счастья.
А после войны, взяв чужие с фамилией имя,
Она возвратилась на родину, жить начала
Сначала. О том, что творилось в дни адские с ними
Там, в лагере смерти, забыть на полжизни смогла.
И книг не читала про это, кино не смотрела.
Узнала — кто жив, но себя выдавать не хотела.
И только сейчас, на закате, она поняла,
Что время пришло, что всю жизнь этой встречи ждала.
И он ликовал! На глазах улучшалось безмерно
Прошедшее, и выяснялось, что Люка жила
На свете, как он. Выяснялось — что наша взяла,