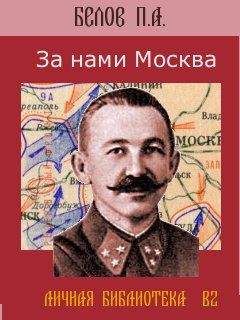Георгий Зангезуров - У стен Москвы
Все делал он не спеша, по-хозяйски, основательно. Никогда не произносил длинных речей, да и сам не любил их слушать. Он считал, что, если тебя люди уважают и если ты призываешь их на дело, нужное для народа, они и без того пойдут за тобой и сделают все, что требуется…
Пожилые, усталые рабочие смотрели на этого седого, сухощавого человека и ждали, что он скажет. Его они знали давно. Знали как справедливого, честного товарища.
Воронов протер очки, надел их и оглядел собравшихся.
— Ти-ише! Говори, Иван Антонович! — крикнул Сычев.
— Что там на фронте? — со всех сторон раздавались голоса.
— На фронте плохо, товарищи. Тридцатого сентября немцы начали новое наступление на Москву. Третьего октября они взяли Орел, а на следующий день захватили Спас-Деменск и Киров, пятого числа пали Мосальск и Юхнов. Войска нашего Западного фронта с тяжелыми боями отходят к Вязьме…
В цехе стало так тихо, что можно было услышать тяжелые прерывистые вздохи людей.
— Господи, да что же это такое?! Что же будет с Москвой, с нами?! — прошептала немолодая темнолицая женщина, стоявшая возле танка.
Мужчины молчали.
— Над Москвой нависла серьезная опасность, товарищи. Очень серьезная. Враг находится от нашей столицы всего лишь в двухстах — двухстах пятидесяти километрах. Чтобы ликвидировать эту угрозу, все москвичи должны подняться на борьбу с врагом. Должны встать на защиту родного города.
Воронов сделал паузу. Он хотел было сказать, что партия знает, как трудно сейчас им, рабочим, и всему народу, и что, несмотря на это, надо устоять, выдержать, но сказал другое:
— Организованный нами отряд народного ополчения выступает на фронт. Но завод должен работать по-прежнему. И даже лучше. С такой просьбой обращается к вам Московский комитет партии, товарищи…
Когда Воронов кончил говорить, на танк взобрался старик Потапов. Он снял с головы кожаную фуражку, помял ее в руках, подумал и сказал:
— Нехорошо… нехорошо говоришь, Иван Антонович.
Воронов поднял голову и вопросительно посмотрел на Потапова: «Что я не так сказал?»
— Да разве мы сами не понимаем, что нельзя немца пускать к Москве? Лучше уж умереть, чем допустить в наш дом фашиста. А ты с просьбой своей в душу ко мне лезешь.
«Вот дьявол въедливый!.. И чего привязался к человеку?» — с недовольством поглядывая на Потапова, думал Степан Данилович.
«Он прав… Не так надо говорить с ними, не теми словами…» — мелькнуло в мозгу Воронова.
— Тут ведь много таких, которые в третий раз берут в руки винтовку, — продолжал Потапов. — Вот хотя бы Данилыча взять, — кивнул он в сторону Пастухова. — В Декабрьском восстании пятого года участвовал? Все скажут, что участвовал. В октябре семнадцатого воевал? Воевал. Да и мы вроде не отставали. Так разве же мы теперь не поднимемся, не встанем на защиту Москвы?
Цех зашумел:
— Правильно!
— Верно!
— Может, я что не так сказал? Может, ты со мной не согласный? — снова напустился на Воронова Потапов.
— Да так, все так. Спасибо за науку.
Воронов обнял его и крепко, по-мужски, расцеловался с ним.
— Спаси-и-ибо, а в отряд небось не записал, — спускаясь на землю, добродушно проворчал Потапов.
На танк вскарабкалась Катюша.
— И до чего же все несправедливо делается у нас! — зачастила она. — Ведь почему здесь так говорил дедушка Потапов? Почему нападал на Ивана Антоновича? Потому, что он тоже хочет на фронт уйти. Каждый о себе думает, а о нас — никто. Как будто мы, женщины…
Раздался смех.
— Да неужто ты — женщина? — выкрикнул из переднего ряда Колька Сычев.
Катюша даже не посмотрела в его сторону.
— Как будто мы, женщины, хуже мужчин. Вон Кольку записали в отряд, а меня — нет. А он только на два года и старше меня. Несправедливо это…
— Вот язва! Ну и язва! — сказал Сычев низкорослому татарину.
— Она тебя в гроб-могилу вгонит, Колька. Вот увидишь, — ответил тот и тут же крикнул Кате: — Ладно, кончай базар! Детскому саду слова не давали!
— А ты молчи, Султан-Гирей!..
Парня звали Гиреем, но с легкой руки Катюши молодые рабочие прибавляли к его имени устаревший титул восточных монархов, и получалось: Султан-Гирей. Это очень злило парня, но он уже ничего не мог поделать — прозвище приросло к нему.
— Ты же мазила, каких свет не видел… — обращаясь к Гирею, продолжала девушка. — Все знают, как ты стреляешь из винтовки. Ты не то чтобы в яблочко, но даже в фанерный щит попасть не можешь. А я двадцать пять из тридцати выбиваю да еще на курсы санитарок хожу. — Она спрыгнула с танка. — Что? Съел?
Гирей шарахнулся в сторону и потащил за собой Николая.
— Отойдем, Коля, она сейчас кусаться начнет.
— Да замолчите вы! — шикнули на них рабочие.
— У меня вот какая думка, товарищи, — поднявшись на танк, сказал Пастухов. — То, что мы всем цехом остались здесь и наладили ремонт танков, хорошо. Но ведь для танков нужны и снаряды…
— Ну уж это не наша забота! На это есть снарядные заводы! — выкрикнул кто-то из толпы.
— Не спорю. Есть такие заводы. А если ко времени не подвезут к фронту эти снаряды, тогда как? Дорогу разбомбили, скажем, или еще того хуже: город окруженным оказался?… — И Степан Данилович вдруг смолк, пораженный своими последними словами.
Все зашумели:
— Да ты что, Данилыч?
— Об этом и подумать-то страшно!
— Страшно. А думать надо. Если бы мне четыре месяца назад кто-нибудь сказал, что немец зайдет так далеко, как он зашел теперь, я бы!.. — Степан Данилович поднял вверх большие, сильные руки с сухими, узловатыми пальцами. — Я бы этому сукиному сыну ребра переломал!.. А вот поди ж ты! Выходит, не я, а он оказался бы правым.
Так-то вот. На войне по-всякому дело обернуться может…
— Чего ты тянешь? Говори, что надумал?! — крикнул снизу Потапов.
— Я скажу… — сердито буркнул Пастухов и повернулся к Воронову. — Решение о том, чтобы порушить литейку, а ее оборудование вывезти, неправильное. Разве там, куда эвакуируется завод, оборудования не найдется для такого цеха? Найдется.
— Да зачем она понадобилась тебе тут, литейка?
— Снаряды и мины лить. Вот зачем.
— Правильно, мастер!.. — крикнул какой-то танкист из задних рядов и стал проталкиваться вперед.
Когда он поднялся на танк, все увидели, что его лицо было покрыто багровыми шрамами. Ни ресниц, ни бровей. Виднелись одни глаза с красными веками, хрящеватый нос да зубы. Став рядом с Пастуховым, он заговорил резко, отрывисто:
— Очень правильные ваши слова, товарищи… Без вашей помощи мы там, на фронте, ничего не сделаем. Вы же знаете… у нас пока мало танков, да и снарядов не так уж много. И все-таки нас не сломить. Насмотрелся я тут на вас. Без сна, без отдыха работаете. Раз у нас и здесь такие люди, как на фронте, не видать немцам Москвы. — И, сделав паузу, продолжал: — Я вот хочу сказать о своем командире лейтенанте Сорокине. Под Смоленском нашу тридцатьчетверку подбили. Башню заклинило. Радист и заряжающий убиты, пулемет разбит, а лейтенант истекает кровью… Я уже хотел повернуть назад и выйти из боя. Но тут машина загорелась. «Что делать?» — кричу я Сорокину. «Вылезай через нижний люк!» — приказывает он. «Один не пойду!» — говорю ему. А он на своем стоит. Приказывает покинуть танк. Не знаю, правильно я сделал или нет, а только из машины вылез. Он, наш лейтенант, дал полный газ и в охваченном огнем танке устремился на немецкую машину. Пошел на таран. Ну и… немецкий танк он вывел из строя, а потом и сам взорвался… Вместе с машиной…
Закончив свой рассказ, старшина сошел с танка. Люди, пораженные подвигом лейтенанта, молчали. Каждый из них теперь еще явственнее понял, какое важное дело делают они для фронта. Как дорог в бою каждый танк, каждый снаряд, каждая мина…
14
Недалеко от Белорусского вокзала, в тихом переулке, выходившем на Ленинградское шоссе, стоял четырехэтажный дом, выложенный из красного кирпича. Старые, ветвистые клены с пожелтевшей и уже опадающей листвой окружали его со всех сторон. Они заглядывали через запыленные стекла в опустевшие, притихшие квартиры, которые не так давно звенели детскими голосами.
Ранним утром к подъезду здания быстро подкатила «эмка». Из нее вышел высокий, немолодой генерал, вошел в вестибюль, торопливо поднялся на второй этаж и остановился у массивной резной двери, на которой была укреплена медная дощечка с надписью: «Громов П. В.». Генерал посмотрел на дощечку и невесело усмехнулся: «В последнее время вы все реже видите эту табличку, Павел Васильевич. Нехорошо…» Он достал из кожаного чехольчика английский ключ на тоненьком ремешке, открыл дверь.
Павел Васильевич ждал, что вот сейчас он войдет в квартиру, его шаги, как всегда, услышит Аленушка и, бросив все свои дела, побежит ему навстречу с радостным криком: «Папа приехал! Папа приехал!» — и тут же, не дав ему снять шинель, потащит в свою комнату показывать рисунки.