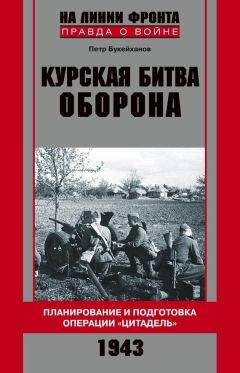Ромен Гари - Европейское воспитание
— Ты очень любишь музыку?
— Да.
— Ты можешь приходить сюда часто. Тебе нечего бояться. Я буду счастлив играть для тебя, сынок. Хочешь поужинать со мной?
— Нет.
— Как хочешь. Меня зовут Шредер, Аугустус Шредер. В мирное время я делал музыкальные игрушки. — Он вздохнул. — Я очень люблю свои музыкальные игрушки. Больше, чем людей. А еще я очень люблю детей. Я не люблю войну. Но мой сын, которому столько же лет, сколько тебе, очень любит войну… — Он пожал плечами. — Мне нужно было уехать или потерять своего ребенка. Но я служу интендантом, и у меня даже нет винтовки. Мы могли бы подружиться, сынок.
— Нет, — сказал Янек. Он запнулся. — Но я еще вернусь.
— Я с радостью поиграю для тебя.
Янек ушел. Зося ждала его в землянке.
— Я так боялась за тебя!
— Ну как? — спросил Янек. — Красиво, правда?
Она опустила голову с виноватым видом. Внезапно она расплакалась.
— Зося!
Она громко рыдала, как побитый ребенок.
— Зося! — взмолился он. — Зосенька… Что с тобой?
— Некрасиво, — рыдала она. — Совсем, совсем некрасиво!
— Зося…
Он обнял ее. Прижал к груди.
— Ты больше не любишь меня!
— Нет, я люблю тебя, люблю… Не плачь, Зосенька!
— Ты любишь свою музыку больше, чем меня… Господи! Как я несчастна!
Он не знал, что ответить. Он прижимал ее к себе. Он гладил ей волосы. И повторял:
— Зося, Зосенька.
21
Янек несколько раз приходил к Аугустусу Шредеру. Тайком, стыдясь самого себя: он мучился так, словно бы совершал предательство. Поначалу он все время был начеку, сжимал в кармане револьвер и подозрительно следил за движениями немца. Но Аугустус Шредер сумел внушить ему доверие. Он показал Янеку фотографию сына: молодого человека с угрюмым лицом, в гитлеровской форме.
— Он твоего возраста, — сказал он печально. — Но не любит музыки. Ему не нравятся мои игрушки.
Игрушки он тоже показал: фигурки гномов и немецких бюргеров прошлого, изготовленные с большим мастерством.
— Я смастерил почти всех персонажей сказок Гофмана и братьев Гримм, — пояснил он с детской гордостью. — Я люблю прошлое… Я люблю Германию флейтистов и дудочников, ночных колпаков и нюхальщиков табака, длиннополых сюртуков и белых париков… — Он улыбнулся. — В те времена людоеды жили только в сказках, они были славными малыми и никого не ели; больше всего на свете любили свои домашние тапочки, трубку у камина, кружку пива да добрую партию в шахматы…
В каждую игрушку был встроен механизм: достаточно было нажать на кнопку, и фигурка оживала, совершая поклон или балетное па под ясные звуки мелодичного аккорда.
— Я никогда не делал оловянных солдатиков, даже для сына, — говорил Аугустус Шредер.
Он садился за рояль и играл. Больше всего он любил Lieder[52] и играл их восхитительно. Янек чувствовал, что эти мелодии как нельзя лучше выражали душу старика, его мечты, его былую любовь… Он с наслаждением слушал эту нежную и печальную музыку. Однажды он спросил:
— Вы правда немец?
— Да. И побольше этих… — Он махнул рукой на окно: по улице с грохотом проезжали танки. — Я — последний немец.
Он долго жил в Кракове и хорошо знал польский язык. Он не осмеливался заговорить с Янеком о его родителях. Однажды он робко спросил:
— Где ты живешь?
— В лесу.
— Хочешь жить у меня?
— Нет.
Аугустус Шредер немного ссутулился и больше не настаивал. Он подарил Янеку одну из своих игрушек. Баварского бюргера в ночном колпаке: он улыбался, нюхал табак, чихал и удовлетворенно качал головой под звуки: «Ach, mein lieber Augustin».[53] Янек повсюду носил эту фигурку с собой. Он показал его Зосе. Часто, сидя в землянке, они оба громко хохотали, наблюдая, как старичок нюхал табак и чихал…
«Ach, mein lieber Augustin, Augustin, Augustin…» — несколько раз играло у него внутри. И человечек с глубоким удовлетворением качал головой.
22
Однажды в пятницу вечером Янкель Цукер начистил сапоги, вымыл бороду, обвернул молитвенник шелковым талесом и ушел. Партизаны доброжелательно смотрели ему вслед. Один только Махорка проворчал:
— Еврей не любит молиться в одиночку. Боится остаться один на один со своим Богом.
Янкель шел быстрым шагом: он опаздывал. Каждую пятницу он отправлялся в пригород Вильно Антокол и заходил на развалины старого порохового склада… Этот пороховой склад служил прятавшимся в лесу евреям временной синагогой и местом собраний: при отступлении в сорок первом русские взорвали его, но некоторые подземные помещения почти не пострадали. Добраться до них было нелегко, и никто туда не спускался, за исключением верующих, уцелевших во время погромов. Их осталось немного, и паролем их была осторожность. Сначала в развалины спускался бродяга Цимес, осматривал помещения — обычно там ютились одни лишь летучие мыши да голодные крысы, — а потом пронзительно свистел: тогда верующие один за другим молчаливо и робко входили на пороховой склад… Янкель немного опоздал. Под землей Цимес с торжествующим видом установил лампу, украденную накануне на главном вокзале Вильно. Пришло уже около десяти человек, худых и нервных, их длинные трагические руки дергались. Сема Капелюшник, старый торговец фуражками с Немецкой улицы, был за певчего. Надвинув шапку на глаза, он бил себя в грудь и покачивался; его губы шевелились, а голос порой взлетал до длинной напевной жалобы, потом вновь понижался, и только губы его продолжали безмолвно шевелиться… Он никогда не смотрел в лежавший перед ним молитвенник и бегал полными страха глазами по лицам верующих, по темным закоулкам и каменным стенам. Он вздрагивал от малейшего шума, резко замирал и прислушивался: и только его побелевшие губы продолжали шептать, а его кулак, на мгновение повисший в воздухе, машинально ударял во впалую грудь. Евреи молились: слышалось непрерывное бормотание одного и того же тембра, а затем вдруг из чьей-то груди вырывался долгий плач, долгая жалоба, наполовину пропетая, а наполовину произнесенная, как бы отчаянный вопрос, обреченный вечно оставаться без ответа. Тогда другие верующие повышали голос, озвучивая этот трагический вопрос, этот проникновенный плач, а затем голоса снова становились тише и переходили на шепот.
— Lchou nraouno ladonainorio itsour echeinou[54]! — рыдал Сема. — Chma izrael adonai… Кто-нибудь остался снаружи, на карауле?
— Цимес, — быстро сказал один из верующих, вперив глаза в Писание и ударяя себя в грудь. — Цимес остался… Chma izrael adonaieloheinou adonaiecho!
— Boruch, chein, kweit, malchuze, loeilem, boet… — благоговейно пропел голос Цимеса. — Я здесь, ребе. Я хочу молиться, как все!
— Arboim chono okout bdoir vooimar! — пробормотал певчий, покачиваясь. — Так кто-нибудь остался снаружи или нет?
— Arboim chono okout bdoir vooimar! — запричитал Цимес, чтобы не компрометировать себя.
— Adonaiechot! — завыл певчий, целуя кончик талеса и зверски ударяя себя в грудь. — Значит, никто не остался на карауле? Arboim chono okout… Говорю же вам, что это нехорошо; нужно, чтобы кто-то вышел наружу и встал на карауле! Arboim chono okout…
— Вы уже пропели это трижды, ребе! — грубо перебил его молодой Цимес.
— Bdoir vooimar! — закончил Сема. — Не надо мне указывать, что я должен делать!
— Зачем мы пришли сюда — молиться или спорить? — сердито вмешался маленький рыжеватый еврей.
— Не надо мне напоминать, зачем мы сюда пришли! — огрызнулся певчий. — Chiroum ladonaichir chadoch!
— Chirou ladonai.
— Oi, chirou ladonai! Пойте, пойте новую песнь пред Господом! Каминский, выйди и встань на карауле.
— Oi, chirou ladonai! — тотчас же откликнулся Каминский с горящими от восторга глазами. Это был бородатый еврей-великан, бывший извозчик из Вильно.
— Ladonaichir chodoch! — пробормотал певчий. — Каминский, я что тебе сказал? Я тебе сказал: выйди и встань на карауле!
— La… a… adonaichir chidoch!
— Каминский, я тебе сказал…
— Не приставайте ко мне! — вдруг заревел великан, и его глаза налились кровью. — Когда ко мне пристают, я начинаю сердиться! А когда я сержусь… Chirou ladonaichir chodoch!
— Boruch, chein, kweit, malchuse, loeilem, boet! — быстро пропел певчий. — Я буду смеяться, когда нас всех перестреляет патруль!
— Adonaiechot!
— Я буду смеяться, когда нас всех перестреляет патруль, oi, как же я буду смеяться! Chma izrael adonai!
— Я буду смеяться, когда нас… тьфу! — сердито сплюнул Каминский. — Капелюшник, ты сбиваешь меня! Ты что, не можешь спокойно читать свою молитву?
— Как вы хотите, чтобы я спокойно читал свою молитву, если повсюду рыщут злодеи, готовые перерезать нам горло, а никто не стоит на карауле? Lefnei adonaiki vo michpoit gooret! Как же вы хотите?