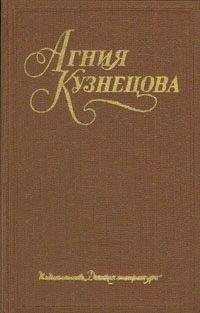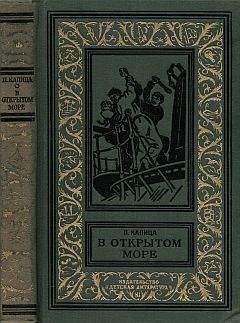Аурел Михале - Тревожные ночи
Митрицэ велел Думитраке положить карту и компас в полевую сумку. Затем они снова взялись за носилки и пошли. Мы, стараясь не отставать, в полном молчании гуськом двинулись за ними.
Скоро мы достигли опушки леса. Митрицэ и Думитраке поставили носилки на землю под дубом. Подойдя к краю опушки и спрятавшись в кустарнике, мы посмотрели вперед и остолбенели: примерно в восьмистах шагах от нас проходило шоссе, над которым клубилось огромное облако пыли. До нас долетал отдаленный, глухой шум мощных моторов. Временами, когда завеса пыли становилась менее густой, мы различали бесконечную колонну машин и танков.
— Немцы! — вдруг прошептал солдат в посконной рубахе. Недоверчиво взглянув на него, мы с опаской повернули головы в сторону покрытого облаком пыли шоссе.
Митрицэ попросил у Думитраке бинокль и залез на дерево. Он стал внимательно рассматривать шоссе. Мы же собрались вокруг дерева и с нетерпением следили за каждым движением Митрицэ. Вдруг он крикнул:
— Братцы! Русские! Я видел красную звезду на танке!
Митрицэ спустился к нам и решительно сказал:
— Хватит! Выходим на шоссе!
— А если нас расстреляют? — спросил один из солдат.
— Зачем им нас расстреливать? — возразил Митрицэ.
Я почувствовал, что ему нужна наша поддержка. Но все молчали, каждый искал ответ в глазах другого. А этот ответ не приходил…
— Давайте-ка закопаем здесь оружие, — после непродолжительного молчания тихо проговорил Думитраке, — и выйдем без него, как мирные люди.
Мы быстро закопали под дубом, возле которого лежал Гицэ Гиня, свои винтовки и автоматы. Растерянно столпившись вокруг Митрицэ и Думитраке, мы теперь меньше всего походили на солдат. Когда же Митрицэ и Думитраке подняли носилки и пошли вперед, мы опять двинулись за ними. С такими решительными людьми, как они, мы чувствовали себя увереннее…
«Что будет, то будет! — подумал я. — Двум смертям не бывать и одной не миновать!»
Но как только мы вышли из лесу, Митрицэ, словно о чем-то вспомнив, вдруг остановился. Он сделал знак Думитраке положить носилки на землю, затем снял каску, которую носил чуть сдвинув на затылок, и начал терпеливо что-то искать под подкладкой каски. Затем он вытащил оттуда свернутый листочек бумаги и медленно развернул его. Это была советская листовка, на которой было напечатано всего несколько строчек — так называемый пропуск. Советские самолеты за последнее время часто сбрасывали на наши позиции такие листовки-пропуска. Там, на фронте, за чтение этих листовок людей отдавали под суд военного трибунала, а тех, кто вроде Митрицэ хранил их при себе, приговаривали к расстрелу.
— У кого еще есть такой, братцы? — спросил нас Митрицэ, размахивая листовкой.
Все оживились. Сначала робко, тайком посматривая друг на друга, потом уже смелее мы начали один за другим вытаскивать спрятанные в одежде и снаряжении такие же листовки. У меня листовка лежала под подкладкой фуражки, у других — в швах брюк, в подсумках… Только у солдата, одетого в посконную рубаху, не оказалось листовки. Дрожа от страха, он с отчаянием обратился к Митрицэ:
— Господин сержант, а у меня нет такой бумажки!
— На, возьми мою, — протянул ему свой пропуск Митрицэ.
Так, держа листовки в руках, мы направились к шоссе. Впереди Митрицэ <и Думитраке несли на носилках Гицэ Гиню. Мы миновали пахнущий душистой травой луг, усыпанный васильками и маками, пересекли пашню, то и дело спотыкаясь о комья земли, так как все наше внимание было приковано к облаку пыли на дороге, затем вышли на жнивье, поросшее птичьей гречихой. Видя, что все обходится благополучно, мы, осмелев, ускорили шаг и тотчас же оказались на шоссе. Но к этому времени, оставляя за собой облако пыли, уже прошли последние машины. Не зная, что делать дальше, мы одиноко стояли посреди дороги и с грустью смотрели вслед удалявшейся колонне.
Вскоре пыль осела, но на шоссе никого не было видно. Стало темнеть.
— Подождем, — сказал Митрицэ, — должны проехать другие.
Мы перепрыгнули обратно через кювет на жнивье, где оставили носилки с Гиней. Потом собрались у края кювета, точно так же, как и в тот раз, перед немецким полковником на перекрестке дорог. Только теперь вместо оружия в наших руках белели листовки, и мы хотели найти лишь понимание и дружбу. Нам не пришлось долго ждать. Вскоре вдали на шоссе темноту прорезали большие светящиеся глаза фар. Когда они отклонялись в сторону, сзади них сверкали десятки и сотни таких же огненных глаз. Их свет пробивался сквозь поднявшуюся пыль, похожую на прозрачную свинцовую завесу. Спустя некоторое время мы услышали шум моторов.
— Едут! — крикнул Митрицэ и шагнул к кювету.
Огненные глаза приближались вместе с нарастающим гулом. Мы стали махать листовками. Я чувствовал, как все вокруг меня затаили дыхание, сердце мое забилось так сильно, словно готово было вот-вот выпрыгнуть из груди. «Братцы, мы несчастные люди! — повторял я про себя, мысленно обращаясь к тем, с кем мы должны были сейчас встретиться. — Не наказывайте нас, бог и так нас наказал этой войной!» Но к горлу подкатил комок, и вслух я не мог сказать ни слова…
Вдруг нас осветили сотни, а может быть, и тысячи фар… «Какими жалкими мы, наверное, выглядим!» — подумал я. Но тут из головы все мгновенно вылетело. Я увидел, как Митрицэ шагнул вперед, и зажмурился от ослепительного света фар. Послышался скрип тормозов и голос Митрицэ. Я открыл глаза. Перед нами остановилась машина, свернувшая к кювету. Сзади в свете фар продолжала мчаться окутанная пылью вереница машин. Из кабины подъехавшей к нам машины вышел молодой советский офицер, белокурый, с загрубевшим от солнца и ветра лицом. Митрицэ по-солдатски вытянулся перед ним и приложил руку к каске, как при отдаче рапорта. Перемешивая свою речь несколькими известными ему русскими словами, он стал говорить, показывая рукой туда, где находились носилки с Гицэ Гиней. Советский офицер что-то крикнул, и из кузова машины выпрыгнули два солдата с автоматами в руках. Я внимательно разглядывал солдата, остановившегося недалеко от меня. Это был пожилой человек с худым лицом и с длинными свисающими усами. В его больших черных глазах светилась нарочитая суровость.
«Рэнит, рэнит», — показывая рукой в сторону кювета, повторял Митрицэ. Наконец офицер понял, о чем он говорит. Он перешел кювет и остановился около носилок. Солдат в крестьянской рубахе, размахивая листовкой, заикаясь от испуга, залепетал:
— У нас пропуск! У нас пропуск!..
Советский офицер взял у него из рук белый листок и, посмотрев на него, вернул солдату. По знаку офицера Митрицэ и Думитраке подняли носилки, перенесли их через кювет и поставили так, чтобы на них падал свет фар.
— Таня! — крикнул офицер.
Из кабины выпрыгнула одетая в военную форму белокурая девушка с санитарной сумкой через плечо. Митрицэ вместе с ней встал на колени около носилок и откинул плащ-палатку с Гицэ Гини. Некоторое время девушка недоуменно смотрела то на Гицэ, то на Митрицэ, застывшего у изголовья раненого. Затем, повернувшись к офицеру, беспомощно пожала плечами. Ее взгляд выражал боль и сострадание… Митрицэ зарыдал и припал к телу Гицэ Гини. По скорбным вздохам Думитраке я понял, что Гицэ Гиня уже не нуждался в помощи. Мы медленно сняли фуражки и растерянно смотрели на лежащие на земле носилки…
Советский офицер велел нам откопать оружие, затем похоронить Гицэ Гиню. Остаток пути к родным местам мы ехали вместе с советскими солдатами. Они угостили нас водкой, хлебом и папиросами. Только смерть Гицэ Гини омрачала радость этой встречи.
Дни борьбы (Рассказ школьника)
Когда мне исполнилось четырнадцать лет, мои родители решили, что их сыну пора кончать бить баклуши и надо приняться за какое-нибудь ремесло. К себе в Железнодорожные мастерские отец ни за что не хотел меня брать. Он говорил, что для котельщика я не вышел ростом, да и силенок у меня маловато. А работа эта тяжелая, грязная, грохот кругом такой, что очуметь можно; платят же очень мало.
— Хватит и того, что у меня голова идет кругом от такой работы, — говорил отец.
Мама же надеялась найти мне хорошее местечко через кого-нибудь из господ, на которых она целыми днями стирала белье.
Однажды вечером она вернулась домой необычайно веселой. Положив на стол хлеб, который она получила от одного из своих клиентов, мама подозвала меня к себе. Она запустила в мою вихрастую жесткую шевелюру красную, потрескавшуюся от частой стирки руку, другой рукой взяла меня за подбородок и сжала его своими маленькими узловатыми пальцами с изъеденными щелочью ногтями.
— Георге! — сказала она радостно, глядя мне в глаза. — Хочешь быть печатником? — При этом глаза ее загорелись. Что мог я на это ответить?
— А неплохо бы! — обрадовался отец. — Печатник — это замечательная профессия! — добавил он немного погодя с тем уважением, которое обычно питают простые люди к печатному слову. — Работать в типографии, делать книги, журналы… это кое-что значит!