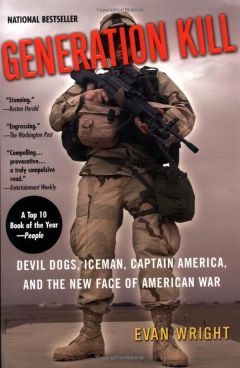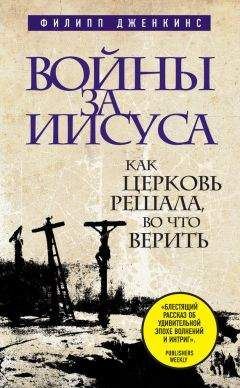Филипп Капуто - Военный слух
Ближе к вечеру солнце заходило за горы, и на прибрежных равнинах очень рано наступали сумерки, однако с приходом этой преждевременной полутьмы становилось совсем невыносимо. Ветер стихал, и, по мере того как земля отдавала накопленное за день тепло, дышать становилось совсем уж нечем. Мы постоянно прикладывались к фляжкам, пока не раздувались животы, и старались как можно меньше двигаться. Пот ручьями лился по телам и лицам. Пыль, прилипавшая к коже, покрывала её густой липкой плёнкой. Температура воздуха не имела значения — в Индокитае местный климат нельзя мерить обычными мерками. На градуснике могло быть сегодня 98 градусов, завтра 110, послезавтра — 105[28], но все эти числа дают такое же представление о степени тамошней жары, как показания барометра — о разрушительной мощи тайфуна. Чтобы дать реальное представление о той жаре, надо рассказать о том, что она могла сотворить с человеком, а сделать это очень просто: она могла его убить, испечь его мозг, или выжимать из него пот до тех пор, пока он не свалится на землю без чувств. Пилоты и механики, жившие на базе, могли укрываться от жары в своих прохладных казармах или клубах с кондиционерами, но на периметре с нею ничего нельзя было поделать, оставалось лишь терпеть. Облегчение наступало только ночью, а с её приходом налетали тучи малярийных комаров, и начинали трещать винтовки снайперов.
Ещё одной проблемой была скука — как на любой позиционной войне. Батальон сменил бойцов АРВ, которые, мягко говоря, не испытывали энтузиазма от того, что им предоставили возможность повоевать во время контрнаступления, и уходить не торопились. А мы бы с радостью поменялись с ними местами. Вместо приключений, на которые мы надеялись, оборона аэродрома обернулась убийственно нудным занятием. По ночам мы несли караульную службу, заступали после заката, отбой давали с первыми лучами солнца. В дневное время мы чинили ржавые проволочные заграждения, копали окопы на боевых позициях, заполняли землёй мешки. Наши позиции часто переносили с места на место, то вправо, то влево, то снова вправо, в соответствии с вечно менявшимися схемами обороны, которые разрабатывали в штабе бригады. Не война, а каторга какая-то. Однажды пришло указание разместить групповое оружие в блиндажах, которые смогли бы выдерживать прямые попадания 120-мм мин — во вьетконговском арсенале эти миномёты были самой тяжёлой артиллерией. Пулемётные расчёты подошли к делу творчески и воздвигли великолепные сооружения в стиле, который можно было бы назвать «мешочным модерном». Не успели они завершить работу над этими архитектурными проектами, как было приказано их разобрать. Командир бригады генерал Карш решил, что наличие блиндажей лишит морпехов «наступательного духа», по поводу чего Салливан заметил, что его подчинённые после нескольких недель непрерывной работы под жарким солнцем и без мытья готовы уже наступать и нападать на кого угодно так, что дальше некуда.
Карш с подполковником Бейном довольно часто выбирались на периметр, и было занятно наблюдать за тем, насколько они разные. Подполковник выглядел как боевой морпех на все сто, да и был таковым — с резкими манерами, грузный, лицо его казалось одновременно и уродливым, и привлекательным. Нос его, весь развороченный и несуразно большой, шрамы на теле и суровый усталый взгляд говорили о том, где он побывал, больше, чем записи в его личном деле и ленточки на груди. Лицо его и в самом деле было уродливым, но оно светилось чувством собственного достоинства, присущего тем, кому пришлось пострадать на войне телесно и душевно. Подполковник сполна отдал свой долг под огнём, и потому принадлежал тому древнему братству, куда нельзя попасть благодаря деньгам, положению в обществе или связям среди политиков.
А вот командир бригады — высокий, но с брюшком — был совсем другим человеком. Чтобы выглядеть браво, он обматывал шею под накрахмаленной боевой курткой зелёным аскотским галстуком. Его ботинки и звёзды на воротнике сияли, и группка штабных офицеров всегда следовала за ним хвостиком, когда он обходил периметр. Во время своих экскурсий он несколько раз пытался поговорить с нами по-мужски, но у него каждый раз получалось не очень. Однажды он заявился на мой командный пункт, когда я брился, налив воды в каску. Когда я попытался стереть с лица пену, этот лощёный тип в накрахмаленной форме с острейшими стрелками уважительно замахал рукой. «Не надо, лейтенант, — сказал он. — Соблюдаете гигиену в полевых условиях. Приятно видеть. Продолжайте». Я продолжил, но меня поразило это притворное дружелюбие, потому что сказал он это как будто какой-то политик во время предвыборной кампании.
* * *Увертюра к контрнаступлению началась в конце марта. Здесь я использую термин «контрнаступление» приблизительно, потому что шум, который доносился до нас каждую ночь, был более похож на серию разрозненных перестрелок, чем на организованное сражение. Пулемёты начинали стрелять размеренно, короткими очередями, они становились всё длиннее и длиннее, пока не начинался один сплошной продолжительный грохот, который неожиданно обрывался. Затем снова звучали размеренные очереди. Время от времени разрывалась мина с коротким глухим звуком, при котором в голову неизбежно приходили мысли о разодранном мясе и переломанных костях. Всю ночь бессистемно бухала тяжёлая артиллерия, и бледные отсветы от разрывов снарядов вспыхивали над силуэтами далёких холмов. Бои иногда шли довольно недалеко от аэродрома, но до нас не доходили, если не считать привычных снайперов, и странно как-то было сидеть в окопах, зная, что другие бойцы убивают и погибают менее чем в миле от нас.
Чтобы бойцы не расслаблялись, ротный комендор-сержант, широкоплечий бодрячок по фамилии Маркан, отправлял их на позиции, каждый раз предвещая неминуемое нападение. «Сегодня они нападут. Га-ран-тировано. Нападут на нас». Но ничего так и не происходило. Считалось, что проводится контрнаступательная операция, а наша роль в ней сводилась к составлению подробных докладов о том, какого вида огонь и когда мы слышали прямо по фронту от секторов, выделенных нашим взводам. Кто и что делал с этой информацией — точно сказать не могу, но она, наверное, помогала офицеру по разведке в штабе батальона составлять карту обстановки, на которой отмечались места дислокации своих и вражеских войск. Как-то раз он мне её показал. Основной рубеж обороны представлял собой зелёную линию, вычерченную стеклографом. Далее за ней роились прямоугольники, означавшие вьетконговские батальоны и отдельные роты, которые охватывали полукругом аэродром. Больше всего войск было сосредоточено с юга и с запада. Зрелище это заставляло всерьёз задуматься и озадачиться: у коммунистов там было войск численностью с дивизию, но мы до сих пор не видели не единого солдата противника. Посмотрев на карту, затем на рисовые поля, и снова переведя взгляд на карту, я почувствовал ту же лёгкую тошноту, что и тогда ночью в окопе Гилюме. Тогда в тех полях сидел один снайпер-призрак. А теперь там возникла целая дивизия призраков.
В тот же месяц был ранен Гонзалез. Это была наша первая потеря. Он руководил группой, устанавливавшей проволочное заграждение, и забрёл на минное поле, которое Рафф-Паффы должны были разминировать перед тем как мы их сменили. Не то они плохо поработали, не то вьетконговцы, которые, по слухам, были в их рядах, преднамеренно оставили на месте несколько мин. Это были маленькие противопехотные мины, предназначенные скорее для нанесения увечий, чем смертельных поражений, и та, на которую наступил Гонзалез, сделала именно то, для чего была предназначена. Взрывом его подбросило в воздух, и его левая ступня превратилась в побитый и окровавленный кусок мяса внутри изодранного в клочья ботинка. Он мог так и умереть там от потери крови, но младший капрал Сэмпсон подполз к нему на животе, проверяя землю на присутствие мин штыком, расчистил в минном поле проход, взвалил раненого себе на плечи и вынес его в безопасное место. Сэмпсона представили к медали «Бронзовая звезда». Гонзалеза с тех пор мы не видели. Его эвакуировали в Штаты, и последнее, что мы о нём слышали, было то, что он находится на излечении в госпитале ВМС на Окинаве. Ступню ему ампутировали.
Мы искренне сожалели о том, что его не стало рядом — не потому, что он был каким-то особенным человеком, а просто потому что он был одним из нас. Питерсон, обеспокоенный тем, что настроение солдат в роте упало, приказал командирам взводов провести беседы с подчинёнными. Мы должны были напомнить им, что находимся в районе боевых действий, и что им придётся привыкнуть к потерям, потому что Гонзалез, будучи первой нашей потерей, наверняка не последняя. При мысли о том, что мне придётся выступить с подобными назиданиями, я почувствовал себя обманщиком, — я ведь ничего не знал о том, как воюют на самом деле — но беседу я всё же провёл. С наступлением сумерек взвод собрался у меня на командном пункте, как высокопарно именовалась моя хибарка. Сгрудившись вокруг меня, как футболисты вокруг полузащитника, с касками подмышкой, с лицами, в которые пыль въелась настолько, что глаза глядели словно из-под красных масок, они терпеливо выслушали речь зелёного второго лейтенанта о суровых реалиях войны. Закончив, я попросил задавать вопросы. Задали только один вопрос: «У Хосе всё будет нормально, лейтенант?» Я сказал что будет, за исключением того, что ногу ампутировали. Несколько человек закивали. Они услышали то, что единственно их интересовало, и было им совершенно наплевать на всё остальное, что я мог им сообщить. С их другом всё будет хорошо. Я приказал им разойтись и, глядя, как они уходят, по двое и по трое, я в очередной раз поразился редкой сердечности, с какой эти самые обычные люди относились друг к другу.