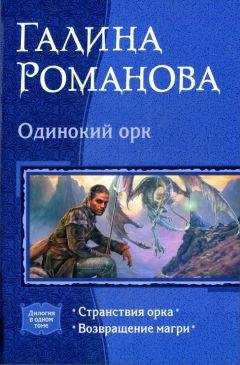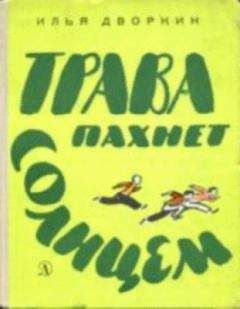Галина Василевская - Прощай, Грушовка!
— Эрик Потоцкий, — отрекомендовался он, когда поезд тронулся.
— Потоцкий? — переспросила Лёдзя. — Так вы граф?
— Нет, только однофамилец.
На стыках рельсов постукивали колеса, иногда поезд останавливался, подолгу стоял среди поля и снова быстро мчался, будто торопился куда-то.
— Я работаю теперь на железной дороге в Минске, — говорил Эрик, — и живу в Минске. Очутился я здесь случайно, поезд остановился на ночь. В этих местах партизаны. Немцы, задержавшие вас, полевая жандармерия. Они долго не разбираются. Вас могли расстрелять.
— За что же нас расстреливать? — опять спросила Лёдзя.
— А вдруг вы партизаны, разведчики? У них нет времени выяснять, кто вы такие.
Я слушала Эрика и все никак не могла поверить в наше освобождение.
6
Утром дети идут в школу. Первое сентября. Но школьников, наверно, стало еще меньше, чем было в прошлом году, так как в этот день к нам зашла учительница.
Я не сразу догадалась, что это учительница. Я поняла это, когда она обратилась ко мне:
— Ну, вот, наконец я застала тебя дома. Почему в школу не пришла? Тебе нужно учиться. Тем более школа рядом.
Я молчала. Учительница понимающе улыбнулась, попросила меня пойти погулять, а сама осталась с мамой.
Я села на скамейку во дворе и ждала, пока выйдет учительница. Вскоре она появилась, увидела меня и сказала:
— Так приходи завтра к девяти часам. Не опаздывай.
Сказала так, будто я уже согласилась.
И все же я пошла в школу. Учительница уговорила маму. Школьникам обещали дать продуктовые карточки.
В классе, куда я вошла, восемь мальчиков и девочек слонялись между столами, возле которых стояли ломаные табуретки. Карандаш и недописанную школьную тетрадь я положила на крайний у входа стол. Вдруг я услышала:
— Танька! Вот хорошо, что пришла. Садись со мной. Пятые и шестые занимаются вместе.
Зинка переложила чей-то карандаш и тетрадь на задний стол, освобождая для меня место.
— Тут же занято.
— Ничего.
В коридоре кто-то застучал по железке, это означало звонок. В класс вошла учительница. Все встали. Она подошла к своему столу, посмотрела на нас, вскинула вытянутую руку и сказала:
— Жива Беларусь!
Зинка быстро повторила жест учительницы и ответила:
— Жива! — И бросила на меня гордый взгляд: «Вот как я умею!»
— Еще не все знают, как по-новому надо здороваться. Ничего, научитесь, — сказала учительница. — А сейчас пятый класс начнет урок истории. Прошлое нашего отечества, нашей милой, старой Беларуси вы должны знать прежде всего. И самые первые чувства, которые следует привить вам, — национальные чувства…
Во время уроков к школе подъехала санитарная машина. Фашисты в белых халатах вошли в класс. У двери встал солдат с автоматом. Класс зашумел. Кто-то заплакал, стал проситься к маме. Один из фашистов что-то сердито сказал учительнице. Она растерялась, заговорила торопливо, обращаясь к нам:
— Не шумите, дети, не плачьте. Ничего страшного не будет. У вас возьмут только капельку крови. Чтобы вылечить тяжело больного, ему делают переливание. Для этого нужно заранее знать группу крови. Вдруг кто-нибудь из вас тяжело заболеет?
Слова учительницы успокоили нас. Видно, приезд фрицев был неожиданностью и для самой учительницы. Ее волнение передалось и нам. Только Зинка спокойно смотрела на всех.
— Я пойду первой, — сказала она мне и подошла к столу, за которым сидел фашист в белом халате. — Брильянтова, — назвала Зинка свою фамилию.
«Сестра милосердия» с крашеными буклями, торчащими из-под белой косынки, протерла кончик Зинкиного пальца спиртом, уколола, выжала капельку крови и смазала палец йодом.
Зинка даже глазом не моргнула. Села рядом со мной с видом победительницы.
«Трусиха! — думала я о себе. — Мне страшно, а Зинке нет. Она первая подошла к немцам, а я готова была убежать из класса, только бы меня не трогали».
— Совсем не больно, — сказала Зинка.
Я прислушивалась, не зазвенит ли звонок, как будто он мог спасти меня. Но звонка не было. Пришлось и мне идти к столу…
— Фамилия?
— Михалевич, — ответила я едва слышно.
Не было звонка и после того, как санитарная машина уехала.
Учительница рассказывала нам о древнем белорусском городе стольном Полоцке, но никто не слушал ее. Наконец постучали в железку. Перемена. Я выбежала в коридор. Двери, выходившие на улицу, были закрыты, и возле них с большой палкой стояла сторожиха. Нас не выпускали из школы.
Потом был урок арифметики. Маленькая девочка плакала в углу, жаловалась, что у нее болит рука.
Урок тянулся невыносимо долго. Учительница вызывала к доске то одного ученика, то другого. Задавала легкие задачи, а мы не могли их решить. Она поставила в классный журнал двойки, называла нас тупицами.
Не успел закончиться урок, как в класс опять вошел фашист, уже не в халате, а в военной форме. Он приказал всем садиться в машины.
Нас повезли на Грушовскую, в военный госпиталь. И там снова брали кровь. Только не из пальца, а из вены. По целому стакану. У меня зашумело в голове, в глазах потемнело. Я сидела в кресле, опершись на спинку, чтобы не упасть.
Через час нас всех выпустили за ворота госпиталя. Я долго стояла, прислонясь к забору. Потом потихоньку пошла, держась за забор. Когда забор кончился, я остановилась. Нужно было перейти улицу. А как ее перейти, если нет сил?
Кто-то крепко обнял меня, прижал к себе и повел. Я подняла голову и узнала Нелю, мою довоенную пионервожатую.
— Неля, а я…
— Ничего не говори, я все знаю. Видела тебя в госпитале.
— Ты здесь, а я даже ни разу тебя не встретила.
— Я недавно вернулась из деревни, работаю в госпитале.
— А Витя в школе работает.
— Знаю.
— И Толя Полозов там.
— Я знаю все. Ты молчи, тебе тяжело, береги силы. Она проводила меня до самого дома, даже поднялась со мной по лестнице, но к нам не зашла.
— Не стоит, — сказала она, — не нужно, чтоб меня у вас видели. Передай Вите привет.
Неделю я пролежала в постели. У меня кружилась голова, казалось, я проваливаюсь в бездну.
Больше я не ходила в школу.
7
Седьмого ноября Лёдзя пришла к нам с Эриком Потоцким.
— У вас сегодня праздник, — сказал он, здороваясь. Мама испугалась. Отмечать Октябрьский праздник оккупационные власти запретили. Да и совсем ни к чему в нашем доме человек в немецкой форме. Не будем же мы объяснять соседям, что это поляк, который спас нам жизнь. Увидят и начнут чесать языки: «К Михалевичам фрицы ходят!»
Когда Эрик разделся, Витя провел его в комнату, а мама с Лёдзей ушли на кухню.
— Он пришел ко мне. Не сидеть же мне с ним одной. Давай вместе принимать, — шепотом говорила Лёдзя.
— На стол поставить нечего. Знали бы заранее, достали бы хоть самогонки, — сказала мама.
Эрик словно догадался, о чем идет разговор на кухне. Он позвал Лёдзю и маму в комнату, открыл свой портфель и выложил на стол несколько банок с консервами, целую буханку хлеба и вино в тонкой, длинной бутылке.
— Все есть. Не беспокойтесь.
— Если к нам заходит гость, мы ставим на стол все, чем богаты, — возразила мама. — А теперь мы и в самом деле богаты.
Из двух яиц и муки мама замесила тесто. Я помогала Лёдзе чистить картошку, на сковороде разогревалась тушенка из консервной банки.
И вот мы сидим за столом. Отец — больную ногу он обмотал теплым платком, — мама, Лёдзя, Эрик, Витя и я. Бабушка отказалась идти за стол, осталась в своем закутке.
А я бы ни за что не удержалась, когда на столе столько лакомств. Не могу отвести глаз от мяса. Эрик перехватил мой взгляд, взял мою тарелку и положил полных две ложки тушенки. Удивляюсь взрослым — тратить время на какие-то разговоры! Я моментально съедаю все и чувствую укоризненный взгляд мамы. Мне стыдно, но не могу отвести глаз от тарелки, на которой расплылся жир. Я иду на кухню, будто для того, чтобы вымыть тарелку, и там украдкой вылизываю ее, потом мою. Вернувшись в комнату, я ставлю тарелку на стол и опять вижу укоризненный мамин взгляд. Но что я сделала плохого?
Взрослые по-прежнему разговаривают.
— И все же та война была более человечной, — говорит отец. — Знаю, сам воевал.
— Теперь машины, технику человек взял на вооружение, — соглашается Эрик.
— Ну что ты говоришь, Николай, разве может быть война человечной? — не соглашается мама.
Лёдзя сидела рядом с Эриком.
— И когда только она кончится? — вырвалось у нее наболевшее из глубины души.