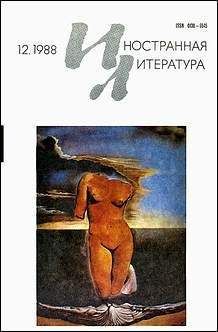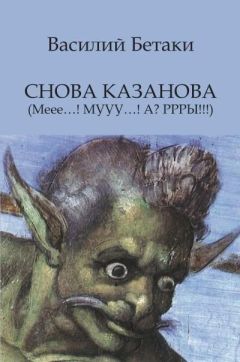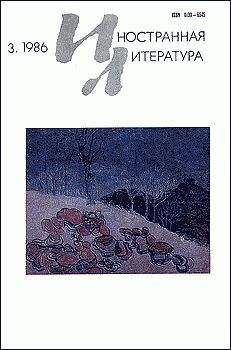Кипхардт Хайнар - Герой дня
Рудат вспомнил, как однажды читал, что перед лицом смерти и в отчаянии человек взывает к богу, и подумал, что это затасканный вздор для душещипательной писанины, - сам-то он не взывал ни к чему. Он обливался холодным потом, ледяные струйки текли по телу, а дышать становилось все труднее. Он заставлял себя думать о тех трех-четырех людях, которые погорюют о нем с месяц-другой, но в сознании неотступно билось, что умирает он ни за что и двадцать два года жизни прошли впустую. А еще что-то в затуманенном, жаждущем кислорода мозгу твердило, что его обманом лишили этих двадцати двух лет и что он не позволит украсть у себя и что остальное, что он хочет жить и должен что-нибудь сделать. Он опять зашелся кашлем и рванул ворот френча. Перевернулся на живот, чтобы выплюнуть поднимавшуюся из легких жижу, может быть кровь, и инстинктивно схватился за пулемет. Судя по звуку, Пёттер снова у булыжной стены, методично пинает ее ногами. Рехнулся он, что ли? Рудат подполз к нему, хотел оттащить, но вдруг стена действительно подалась, и в образовавшийся пролом хлынул воздух, почему-то пахнувший антисептиком. Они орудовали штыками, расширяя дыру, чтобы можно было в нее протиснуться. Копали осторожно, стараясь не шуметь. Один раз пришлось остановиться: кто-то был вблизи забитого камнями хода. Казалось, огромный зверь вынюхивает след, [88] и Рудат подумал, что это, наверно, Цимер шныряет в лабиринте и, по обыкновению, сморкается пальцами.
– Черта лысого они нас нынче возьмут, - сказал Пёттер; он отдал Рудату катушку с проволокой, протиснулся в проем и по проволоке спустился вниз. Неглубоко, метра два с половиной - три. Рудат сбросил ему вещмешок. -Я тебя поддержу за ноги. Вылезай! - скомандовал Пёттер.
Из-за громоздкого пулемета Рудат замешкался и, болтая ногами в воздухе, никак не мог достать Пёттеровы руки.
– Отойди, я спрыгну. Отойди!
Очутившись на утрамбованной площадке, он в темноте поискал глазами Пёттера. Нет его, наверно, пошел дальше. Рудат отвязал пулемет и только через несколько шагов сообразил, что находится в сравнительно широком коридоре, который плавной дугой уходил вниз. В самом деле попахивало антисептиком - не то карболкой, а может быть, просто мочой. Нога наткнулась на что-то мягкое. Должно быть, Пёттеров вещмешок. Рудат наклонился и понял: мертвец. Хотел окликнуть Пёттера, сказать ему, как вдруг чьи-то руки стиснули горло. Падая навзничь, он увлек за собой противника, но тот не ослабил хватку. Вырываясь, Рудат отчаянным усилием вскинул голову и попал нападавшему в лицо, ударил раз, другой… Выходит, эсэсовские головорезы все-таки подкараулили их и ухлопали Пёттера, только он, Рудат, живым не дастся. Руки его шарили по земле - где-то здесь должен быть пулемет. Ага, вот он! Заметив, что противник снова метнулся к нему, Рудат дал очередь и бросился назад по коридору. Налетел на какую-то дверь, услышал за спиной топот и выстрелил еще раз. Налег на дверь, высадил ее и покатился вниз с четырех - пятиметрового травянистого откоса, судорожно сжимая пулемет и думая только об одном: эсэсовцам он живьем не дастся. Потом услышал рев моторов самоходки, грохот орудийного выстрела и только тут сообразил, что нечаянно попал в одно из разыскиваемых партизанских укрытий, что он, Рудат, навел на него эсэсовцев. Подъехало еще несколько самоходок и бронетранспортеров, взрывники и огнеметчики - народ умелый: за каких-то двадцать минут бункер был вскрыт и сопротивление сломлено. Солнце так палило - хоть яичницу на броне жарь. Заработали огнеметы: пламенный смерч пронесся по коридорам, сметая все на своем пути; а люди - те, у кого еще были силы, обожженные, искалеченные, обезумевшие - пытались уйти от огненных струй, ползли из полузасыпанных нор к выходу, навстречу смерти, под пулеметы эсэсовцев.
Очевидно, в укрытии размещался партизанский лазарет, пять или шесть десятков больных и тяжелораненых. Ну и, конечно, кое-какой обслуживающий персонал, главным образом молодые женщины и солдаты охранения. Среди убитых было много безруких и безногих, у большинства, видимо, были повязки, так как кое-где виднелись полосы необожженного мяса.
– Уму непостижимо, как все это смердит в летнюю жару, - сказал пожилой эсэсовец, заваливая входы песком, чтобы убить заразу.
Правда, без заминки не обошлось: человек восемь-десять партизан через запасной ход незаметно выбрались на самый верх бывшей каменоломни и засели там, умело используя в качестве прикрытия колючий кустарник и валявшиеся повсюду каменные глыбы. Подступиться к ним было практически невозможно. Бронетранспортеры вязли в сыпучем песке крутого откоса, самоходки тоже бездействовали, так как, даже выберись они на узкую площадку, партизанские позиции все равно попадут в мертвое пространство их орудий. Одну из самоходок с ударной группой послали наверх, но она нарвалась на мину и вышла из строя. Одного солдата убило, двоих ранило. Пришлось отступить. Следующую группу партизаны обстреляли с подбитой самоходки из пулеметов. Оттуда простреливался весь [89] склон, так что волей-неволей пришлось разнести собственную самоходку из противотанковых орудий. Какой-то шарфюрер, в прошлом лавочник из Плаузна, сказал:
– Этим болванам, в сущности, все одно каюк - хоть сейчас, хоть через полчаса. Так нет же, дерутся до последнего патрона. Вот ведь фанатики!
Очень уж ему было жалко терять время: прошел слух, что по окончании операции выдадут настоящее пиво. Один даже болтал, что видел бочки, пльзеньское, из самого Пльзеня, там так и написано. А теперь торчи тут по милости десятка фанатиков! Утопить их в нужнике - и дело с концом! Он лично предпочитает пить из глиняных кружек, да чтоб пиво было похолоднее, так оно для здоровья полезней.
– Небось все уж высосали, нам и понюхать не достанется, - твердил бывший лавочник.
Чтобы разделаться с десятком партизан, из деревни пригнали тяжелый танк с огнеметами. К тому времени набралось порядком желающих участвовать в акции. По приказу Фюльманша прибыл Хазе - посмотреть, нет ли тут кого для допроса. Он на этот счет не обольщался, нисколько! Вот еще! Тратить на неучей умственную энергию! Можно только позлорадствовать, что этот неудавшийся тевтон Фюльманш сел со своей высокопарной речугой в лужу. То, что Фюльманш вынужден сейчас делать с оставшимся штатским сбродом, он, Хазе, сделал бы еще час назад, причем чище и дешевле. Ведь начнут теперь прикидываться умалишенными. После всех этих цирковых фокусов. Он не выносит истерики во время казней, до смерти не выносит. «Ну и черт с ним. Пусть Фюльманш сам расхлебывает, - думал Хазе. - Умфингера жалко, надежный был малый. Великолепный работник, из кого угодно котлету мог сделать». Хазе решил, что не погрешит против воли покойного, если заберет себе его коллекцию столовых приборов и монет. Надо организовать приличные похороны. Это его долг. Гибнут всегда не те.
– Что ж, сейчас мы устроим этим голубчикам зарядку, - сказал он командиру танка. - Вот выкурите их из нор, и трое-четверо достанутся на мою долю.
* * *
Услышав из деревни залпы танковых орудий, Рудат вскочил на ноги. Побежал по травянистому склону бункера, черному от пепла и почему-то похожему на волосы негра. Он упрямо карабкался по круче, срывался и снова лез, пока не очутился наконец на самом верху. Деревня лежала перед ним как на ладони. Фосфорные снаряды ударили по школе и по машинному сараю, белые струи огня полоснули по гроздьям людей, забивших окна и двери. Послышался треск пулеметов, тонкие крики, словно с далекого стадиона. А он все стоял, смотрел и слушал. Над деревней поднялось облако дыма, черное, жирное, странной формы. Надо запомнить. Облако напоминало заспиртованный разрезанный мозг. Вот на верхнюю площадку каменоломни выскочил танк и включил огнемет. Рудат слышал всхлипы пламени. Стрекот русских пулеметов и автоматов становился все тише, все реже. Потом наступила тишина. Из камней сквозь горящие кусты выползли четыре человека, сложили оружие, те, кто еще держался на ногах, сцепили ладони на затылке. Молодчики Хазе бросились на них с кулаками и погнали вниз по склону, осыпая градом ударов, пока вконец обессиленные люди не упали и не поползли на четвереньках. Внизу подоспели власовцы, с бранью стали срывать с них лохмотья, бить нагайками.
Среди партизан Рудат увидел женщину - ее били по груди, по животу. Это была Таня. Волосы у нее сгорели, вместо бровей и лица - багровый мокнущий ожог. Она спотыкалась, прикрывая руками тело и разбитую посиневшую грудь. Что-то кричала, он не мог [90] разобрать что. Однорукий партизан упал и остался лежать на спине, а власовский атаман встал ему на живот и что-то заорал. Однорукий поднял голову, точно силясь разобрать слова, открыл рот, точно для ответа, но из горла у него фонтаном хлынула кровь.
– Кончайте с этой сволочью, - распорядился Хазе. - Пора и отдохнуть. Загоните их на бункер. - Бросив туда взгляд, он заметил какого-то солдата, который неподвижно глядел перед собой, и крикнул ему - а то, может, еще решил обзавестись могильным камешком с золотой надписью: - Слезай, да поживее!