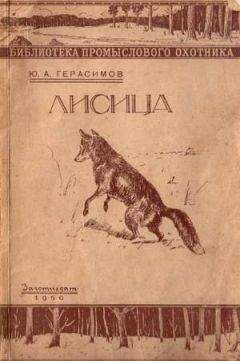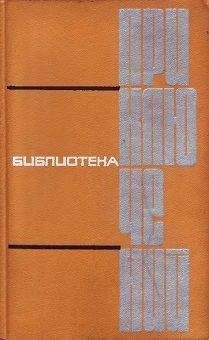Михаил Герасимов - Пробуждение
Последнюю фразу он почти прокричал. Но еще раз взглянув на мои сапоги, лишенные всяких украшений, сказал уже почти милостиво:
— Можете идти, прапорщик!
Сделав налево кругом, щелкнув каблуками и дав ногу — пригодилась артиллерийская выучка — я с победоносным видом вышел в канцелярию, и тут же в кабинет вошел последний прапорщик, я услышал его фамилию — Ращис.
— Ну как? — встретили меня Речников и Стышнев.
— Да все в порядке, — небрежно отвечал я. — Полковник очень милый человек.
Они с недоверием посмотрели на меня.
В это время дверь кабинета раскрылась, и из нее бомбой вылетел Ращис, хотя и без шпор, но красный и распаренный. В кабинете бушевал полковник. Дико взглянув на нас, Ращис снова вошел в кабинет, а через мгновение, окончательно взмокший, вылетел оттуда.
Не сговариваясь, мы дружно пошли к выходу, надели шинели и вышли во двор, где нас догнал адъютант.
— Господа! Получите назначение. Приказ будет отдан сегодня.
Оказывается, Ращис, отдавая рапорт, приложил руку к виску, забыв о том, что он без головного убора.
Тут полковник и взял его в оборот:
— К пустой голове руку не прикладывают, устава не знаете, чему вас учили... — и пошел и пошел. — Выйдите вон, прапорщик. Представьтесь еще раз.
Таково была наше первое знакомство с командиром запасного батальона.
Декабрь
Несколько дней, как я — младший офицер третьей роты. Народу в ней мало — только кадры, маршевиков нет. Кадры обучены хорошо. Командир роты бывает в ней редко. Всеми делами вертит фельдфебель Колдобаев, умный, смекалистый мужик лет под сорок. Пытался в первые дни принимать мою шинель и подавать ее. Я решительно отклонил его услуги, сказав, что люблю это делать сам. Тогда фельдфебель завел разговор о стрельбе. Он оказался сибиряком, охотником, что, к слову сказать, не вязалось с его внешним видом богатого деревенского хозяина. Уверял, что попадал белке в глаз. Предложил мне пострелять дробинкой, меня это соблазнило, так как дробинкой я еще никогда не стрелял. Колдобаев взялся показать мне эту премудрость, стреляя в гривенник на десять шагов. Нужно сказать, что стрелял он прекрасно: после каждого выстрела гривенник со звоном летел на пол.
Моя проба оказалась неудачной, я попал в монету только с третьего выстрела. Помня, что у меня обнаружились способности к стрельбе, я сказал Колдобаеву, что через три дня думаю от него не отстать. За эти дни я сделал около сотни выстрелов. Фельдфебель тоже тренировался.
Через три дня устроили соревнование. Фельдфебель предложил стрелять по серебряному пятачку. Это уже было посложнее. Но я был уверен в себе и согласился. Колдобаев немного нервничал и первый выстрел дал мимо, но затем четыре раза подряд сбил пятачок, а я из пяти выстрелов не дал ни одного промаха. Стреляли еще раз по пяти дробинок, Колдобаев усердно прицеливался, положив винтовку на ладонь. Все его выстрелы попали в цель. Но и я стрелял не хуже. Тогда фельдфебель, видимо уязвленный тем, что молодой прапорщик, только начавший стрелять, шутя победил его, несравненного стрелка, предложил стрелять по головкам спичек. Я был в ударе и согласился. Условились сделать по пяти выстрелов. Первым стрелял Колдобаев и попал в цель, я дал промах. Вторым выстрелом Колдобаев снова сбил головку спички. Мои дробинки в спичку попали, но головку не сбили. Сделали еще по три выстрела: фельдфебель попал в цель дважды, а я три раза.
В следующие дни я уже почти без промаха сбивал спичечные головки, приглашая фельдфебеля померяться силами. Но он все время был занят. Соревнование наше не продолжалось.
Колдобаев — он прижился в Иванове — рассказывал мне, что Клязьминский пехотный полк, сформированный в основном из ивановских ткачей, плохо дрался на фронте и под Варшавой почти целиком сдался в плен немцам.
Я не верю этому. Подобных настроений у нас, артиллеристов, никогда не было. А чем пехота хуже? Я видел полк, шедший с Бзуры. Мало там осталось народу, но оставшиеся не были похожи на тех, кто сдается в плен. Врет, собака, фельдфебель! Обидно и за ивановских ткачей, и за русских солдат.
Я нарочно сказал потом Колдобаеву, что есть предположение заменить всех здоровых офицеров и унтер-офицеров в запасных батальонах выздоравливающими ранеными, а тех отправить на фронт. Хоть и хитер наш фельдфебель, но даже в лице изменился, и его сладостно-жирный басок превратился почти в тенорок. Я был доволен. Пусть не злорадствует насчет ивановцев сибиряк и, должно быть, кулак не из последних.
Так как в роте рядовых для пополнения маршевых рот было очень мало, все занятия проводил я, или, вернее сказать, присутствовал на занятиях, которые проходили строго по расписанию. Учеба была самая немудреная: строевая подготовка, штыковой бой, стрелковая подготовка.
Командир роты поручик Светлоглазов на занятиях ни разу не был, посещал роту раз в два-три дня и то только для того, чтобы подписать какие-то бумаги, которые ему подсовывал Колдобаев. Что делал Светлоглазов, я так и не узнал, да и мало интересовался этим. На офицерских занятиях его тоже не видел.
Занятия в роте не представляли для меня особых затруднений, так как строевую подготовку я знал хорошо и штыковым боем овладел в школе достаточно основательно. Но стрелковую подготовку все еще не вполне освоил, поэтому подчитывал наставления да приглядывался, как проводят занятия унтер-офицеры. В своем деле они были настоящие мастера. Я задался целью овладеть всем не хуже их, но пока еще, конечно, не успел.
Словесность — Внутренний, Гарнизонный и Дисциплинарный уставы — я знал почти наизусть и на экзамене в батальоне получил по ним отличные отметки. Новым для меня явились занятия на ящике с песком: здесь солдаты обучались окопному делу, строили палочками окопы разных размеров, из ниток и палочек делали проволочные заграждения. Эта имитация действительности мне по неопытности очень понравилась, и я счел долгом усвоить нехитрую методику. Практические занятия в поле пока не проводились.
Офицерские занятия заключались в том, что один из офицеров делал небольшое сообщение о тактике немцев в боях за Варшаву. После этого выступали другие офицеры. Я впервые присутствовал на таких занятиях и, естественно, сам активного участия принять в них не мог.
8 декабря
В запасном батальоне я пробыл только двадцать дней.
Сегодня меня и некоторых других прапорщиков вызвал командир батальона полковник Смирнов. Тряся грязно-серой бородой, он говорил о том, что мы хорошо подготовленные офицеры, поэтому наше место на фронте. «Там, где решается судьба отечества, должны быть лучшие люди!» — восклицал он, не подозревая, что своими словами самого себя причислял не к лучшим.
Смех и грех: я попал в число лучших людей и поэтому еду на фронт. А вот директор нашей фабрики И. П. Бакулин с первых дней войны до сих пор сидит в запасном батальоне и никак не выберется в лучшие люди. Бедняга! Мне его искренне жаль. Так он сможет и всю войну провести здесь и все не будет принадлежать к числу лучших.
Выйдя от полковника, встретил Стышнева, Речникова и других знакомых прапорщиков, направлявшихся к командиру батальона. Я подождал их, так как Смирнов с нами был малоразговорчив. И правда. Они вышли через несколько минут.
Стышнев с юмором рассказывал, как полковник пенял им за то, что они плохо подготовлены и плохого поведения. «Таким офицерам, как вы, место только на фронте», — кричал он. Таким образом, и лучших, и худших — всех на фронт. В запасном же батальоне останутся Бакулины и им подобные.
* * *Итак, второй раз в этом году меня провожают на фронт. Я просил мать не ездить на вокзал — она и так наплакалась за эти два дня, ослабела. Собирая меня в дорогу, она пекла разные пирожки, готовила белье, а по вечерам мы сидели с ней на диване и разговаривали. Я старался не касаться ни войны, ни отъезда, держаться бодро, а на сердце кошки скребли: и мать с отцом жаль, да и война идет не так, как следовало бы.
Последние поцелуи. Я утираю своим платком слезы на глазах матери. Она никак не может оторвать лица от моей груди. Обнимаю и целую ее в последний раз, выхожу не оглядываясь. Отец и брат Сергей уже сидят в санях. Отец все. время держится молодцом. Нет-нет да и скажет: «Мы, Герасимовы, помни, сынок, никогда позади не были». Я, конечно, уверяю его, что не посрамлю знатный род Герасимовых.
— Ты не смейся, — говорит отец, — я знаю: быть тебе полковником.
Едем на вокзал. Там встречаем многих общих знакомых. Наконец обнимаю отца и брата, поезд трогается. На душе грустно и тоскливо. Иду к себе в купе.
— Миша, мы тебя ждем, дернем сейчас круговую, — кричит неугомонный Аркадий Стышнев. В купе все свои: Аркадий, Гриша Малышев, Речников Иван Иванович. «Дернули» раз и два, проговорили за полночь.