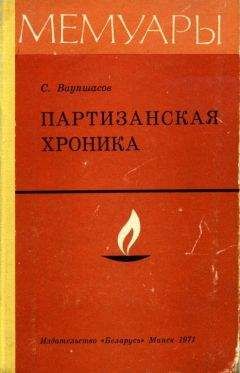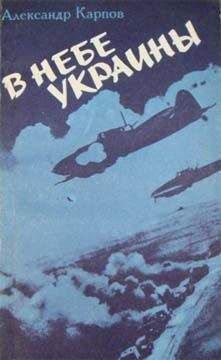Тимофей Гнедаш - Воля к жизни
Над телегой, где лежит Машлякевич, разбита небольшая палатка, она прикрывает от солнца, немного задерживает ветер, прикрывает на случай дождя, но не спасает от утреннего холода и комаров.
— Машлякевич, вам холодно?
Он отрицательно качает головой. Чуть-чуть. И морщится. Даже такое движение усиливает его боли. Светлые глаза его смотрят на меня с тоской.
Георгий Иванович приносит крынку парного молока. Аня осторожно, понемногу вливает молоко через резиновую трубку в горло раненого.
— Приготовим сегодня компот и молочный манный суп. Чай лучше давать с сахаром или с медом? — спрашивает Горобец.
Через полчаса идем с носилками брать Машлякевича на перевязку. Около его воза любопытные.
— Товарищи, не толпитесь, вы же тревожите его!..
Партизаны молча расходятся. Только женщина и девочка остаются около воза. Девочка плачет. Ей лет десять. Тонкие ручонки, босые загорелые ноги. Молодая черноволосая женщина с ужасом глядит то на меня, то на раненого.
— Доктор, он умрет?
Она спрашивает это, не понижая голоса, словно Машлякевич уже умер.
— Кто вы?
— Я его жена, а это его дочка. Скажите правду, доктор, он умрет?
— Откуда вы взяли? Почему умрет?
— Он ничего не говорит. И как будто плохо узнает нас. Сам повернуться не может. Я учора бачыла, худо, худо ему! Думала, может, сегодня будет лучше. А сегодня еще хуже. Блинчиков напекла ему, не ест, даже не берет. Хочет что-то сказать и не может, только плачет.
— Не расстраивайтесь и не волнуйте его. Будет ваш муж снова ходить, говорить, воевать, работать, только не мешайте нам и ему. И еды не надо носить. Мы накормим его вдоволь.
Кладем Машлякевича на носилки. Делаем это насколько можно осторожно, однако он громко стонет. Его опускают с воза на носилки, а у него растерянные глаза человека, падающего в бездну.
По лицу девочки текут крупные слезы. Она не может оторвать глаз от отца.
Я кладу руку на ее светлые мягкие волосы.
— Как тебя зовут?
— Люда.
— Люда, не надо плакать! Папа будет жить.
— Аня, — говорю я в операционной, — а шприц?..
— Ой, Тимофей Константинович, я знаю, я забыла!
— Хорошо, хорошо, только не всплескивайте руками, а то заденете ими за что-нибудь. Надевайте маску, приступаем к перевязке.
Каждый день вносим Машлякевича в операционную. Очищаю его широкую, гноящуюся рану от выделений, от омертвевших тканей. Свентицкий и Кривцов молча, невесело помотают мне. Свентицкий особенно предупредителен ко мне. Он обращается со мной так бережно, словно и я тяжело ранен.
«Да, пожалуй, так и нужно — суетиться, что-то предпринимать, выполнять свой долг; жаль лишь, что все это приносит мало пользы!» — читаю я во взгляде окружающих меня людей.
Раненому с каждым днем все хуже и хуже. Он худеет, слабеет. Даем ему черничные кисели, молочные супы, компоты, кормим его часто, через два — три часа, поим очень сладким чаем с сахаром и медом. Ест он охотно, жадно, но худеет.
— Георгий Иванович, свежие яйца можно достать?
В тот же день Горобец достает свежие яйца.
Кормим Машлякевича гоголь-моголем, но ему все хуже и хуже. По-прежнему он не может уснуть по ночам. Даем ему болеутоляющие наркотики — морфий, пантопон.
Жена Машлякевича Валя, повариха одного из отрядов, ходит к Федорову жаловаться:
— Товарищ генерал, доктора плохо лечат. Замучают они его совсем.
Алексей Федорович ничего не говорит мне о ее жалобах, я слышу о них стороной. Но и сама Валя не скрывает от меня своего беспокойства. Ко мне она приходит только со слезами:
— Что же вы его не лечите?
Остаток нижней челюсти у Машлякевича торчит криво и не совпадает с сохранившимися зубами верхней челюсти. Сделать протез? Из чего? Пластической массы У меня нет. Брожу, ищу, раздумываю… Что приспособить вместо челюсти?
— Георгий Иванович, у нас нет толстой проволоки?
Горобец молча из глубины своего воза достает моток колючей проволоки.
— Тонка, Георгий Иванович.
— Вам, может быть, не проволока нужна, а круглое Железо? Для чего вам?
— Для челюсти Машлякевичу.
— Для челюсти?!. — повторяет он в изумлении. Но я уже заметил на его возу проволочный отес, как раз такого диаметра, какой мне нужен.
— Можно отломать от воза?
— Если для челюсти — ломайте!
Он дает мне топор, молоток, напильник. Отдираю отес, обрубив его, выравниваю на окованном колесе телеги, опиливаю напильником, придав отесу форму латинского «С». У меня нет кузнечной и слесарной практики, вожусь с протезом долго, шлифую его песком, он уже блестит, и все-таки то, что у меня получилось, мне совсем не нравится. Рука не поднимается вставить грубую железку в нежные, болезненные ткани живого человека!
Роюсь в запасах санчасти. Вот что мне нужно — резиновый катетер! Вот как можно смягчить протез: заключить его в резиновую трубку! Стерилизую протез, вставляю его Машлякевичу одним концом в суставную впадину, другой конец протеза прикрепляю проволокой к зубу оставшегося обломка нижней челюсти. Выравниваю этот обломок, покрываю его и протез остатками мышечной ткани.
На следующей операции из остатков мышц щеки, из слизистой оболочки полости рта, из остатков нижней губы и верхней губы создаю угол рта. Сшиваю кетгутом обрывки языка. Рот есть. Язык будет.
В глазах Машлякевича появляется свет надежды.
Он с интересом следит теперь за всеми приготовлениями к операциям. Какое-то подобие улыбки пробегает в его глазах. И улыбка эта передается нам всем Я вижу теперь надежду и у людей, окружающих меня. Не только Аня, Кривцов, Свентицкий, Георгий Иванович, Валя, но и знакомые партизаны смотрят на меня, говорят со мной теперь совсем иначе, чем несколько дней назад. Все переменилось, словно света больше и теплее стало в лесу.
Он будет жить!
Обрывки языка, сшитые кетгутом, постепенно срастаются и заживают. Язык стал более узким и коротким. Машлякевич шепелявит, каждый произнесенный им звук причиняет ему боль, но он бормочет что-то и на операционном столе и на возу. Он говорит «ить», «вить» — и не сразу поймешь, что он просит — «жить»? «пить»?
Лучше всех язык Машлякевича понимает Аня. Она играет роль переводчицы.
— Он говорит: сделайте так, чтобы я мог есть хлеб.
Однако сделать это совсем не просто! Живописцы, рисуя свои картины, поэты, отбирая слово за словом в процессе создания стиха, композиторы, пробуя сотни аккордов в поисках нужного созвучия, черпают свои материалы из огромных запасов. Не то у хирурга в процессе пластической операции. Он ограничен со всех сторон. Он должен создавать новое из немногого.
Каждый раз, на очередной операции Машлякевича, продолжаю удалять омертвевшие ткани. Делая насечки, беру кусочки кожи с шеи Машлякевича, чтобы закрыть огромную дыру в щеке. Но от большого натяжения ткань щеки расползается, рана гноится. Медленно, очень медленно стягиваются рубцы и закрывается рана.
Оставшиеся зубы не попадают один на другой, прикуса нет. Устанавливаю челюсти так, чтобы был прикус, скрепляю зубы проволочкой, жду, пока ткани срастутся окончательно и окрепнут в новом положении. Снимаю проволочки с зубов и — новая беда: начинается рубцевание тканей, рот плохо открывается. Вставляю деревянный клин в зубы Машлякевичу, и с этим клином он живет месяц. Дважды неудачно пытаюсь закрыть слюнной свищ, наконец, аз третий раз это удается, рана теперь окончательно закрыта.
И вот любопытные, толпящиеся около телеги, видят в руке Машлякевича кусок хлеба, он жует хлеб и смеется.
Он будет жить!
Загадочное заболевание
Федоров вызывает меня очень озабоченный.
— Тимофей Константинович, пройдите во взвод разведчиков. Там какое-то массовое заболевание.
Я, Кривцов и Свентицкий идем в лагерь разведчиков. Оставляем с Машлякевичем новую сестру Лиду. Берем с собой Аню. Идти недалеко — километра полтора от штаба.
В палатке разведчиков тесно. На земле, едва прикрытой тонким слоем веток, лежат вповалку человек двадцать. Некоторые совсем не замечают нашего появления. Иные поворачивают голову на свет и встречают нас мутным, безучастным взглядом.
Дело плохо! Такое безучастие, нелюбопытство, притупленность реакций бывают только в тяжелом состоянии, когда для больного «свет становится не мил».
Присаживаюсь на корточки, спрашиваю:
— Что болит?
— Все болит. Голова, руки, ноги. Ходить не могу.
Температура 38,8. Выслушиваю сердце, легкие, прощупываю живот, грудь.
— Больно?
— Болыть! Ой, тут сыльно болыть! И спать не можу! Третю нич не сплю…
Переползаю к следующему больному. Тесно в палатке так, что негде ступить. Беру горячую руку, считаю удары пульса. 120 в минуту.
— Что болит?
— Голова и глаза. И здесь режет, и тут. Везде болит. Как будто разлилась боль…