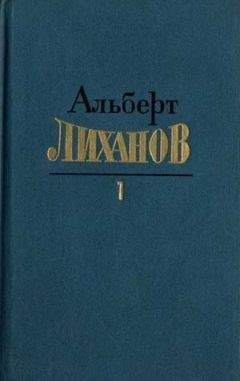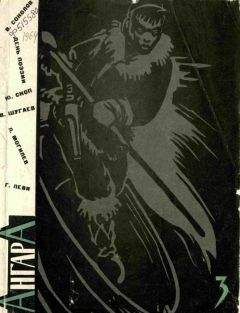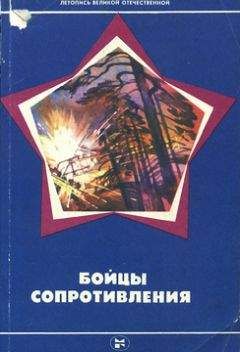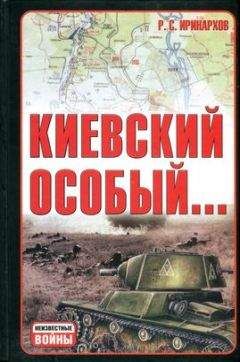Николай Жданов - В окрестностях тайны
Каково, а? И кто бы мог все это предполагать? Наша тетя Сима, «милая, простодушная, добрая», как писали о ней в стенгазете выпускники, и вдруг такое падение! Что ей надо? Какая все-таки низость, и как трудно, оказывается, заметить заранее, что человек способен на подобную подлость!
Теперь я с трудом припоминаю: у нее были какие-то разногласия, она писала заявление, что работала за уборщицу и за «кульера», а ей заплатили только «за уборщицу». Мы еще с Валей Кочетковой переписывали это заявление и относили в группком союза. Там ее поддержали и все ей выплатили, и она сама потом говорила с гордостью:
— Я своей правды всегда добьюсь!
Вот и добилась.
Я первая плюну ей в лицо, если только увижу…
Сейчас я ее видела. И где же? Я уже давно не была на могиле Майи Алексеевны. Какая-то неловкость, какой-то стыд удерживали меня. Мне все казалось — есть что-то недостойное памяти Майи Алексеевны в том, как мы теперь живем: покорные, подневольные…
И вот, оказывается, на могилу уже кто-то приходил без меня и, видимо, не один раз. Холмик прибран, тщательно обложен дерном и сверху обсыпан чистым речным песком. Я еще подумала: кто бы это мог сделать?
Пошла набрать цветов, возвращаюсь и вижу: знакомая могучая, широченная спина склонилась над холмом.
Что-то враждебное и очень горькое так и зашевелилось у меня в груди.
Сначала я просто отвернулась и хотела уйти. Но как же, думаю, — а она тут останется! Вернулась и говорю:
— Уходите отсюда. Вам тут нечего делать, у вас теперь другие друзья!
И чувствую — вот сейчас разревусь, и все.
А она вроде ничего и не слышит или не хочет понять:
— Тонюшка, господи ты боже мой! Да откуда ты взялась? Да неужто вы все здесь? И Анатолий Сергеевич? А мне-то и ни к чему, дуре! Ох, ты господи! Да что ты глядишь-то как? В себе ли ты?
И идет ко мне.
Я так прямо и задрожала вся.
— Не подходите! Слышите, не подходите! Я вас ударю тогда… Вы, вы предательница!..
Больше я уж не выдержала, уронила цветы и убежала.
Она что-то там охала, что-то крикнула мне вслед, но я ничего не слышала и не могла слышать. Я еле добежала до кустов и там упала на землю и сердито, бессильно заплакала, кусая собственные кулаки.
Домой я вернулась часа через два, зареванная, но папе ничего не сказала. Он как раз ждал меня — надо было идти в комендатуру на отметку. (Отметки теперь в неделю два раза — по четвергам и по понедельникам.)
Мы пошли вместе и на обратном пути, тут же у комендантской ограды, недалеко от часового опять встретили нашу бывшую школьную уборщицу.
Она остановилась и посмотрела на нас испуганно и, как мне показалось, заискивающе.
Я нарочно отвела глаза в сторону.
— Анатолий Сергеевич! — услышали мы умоляющий голос.
Но папа только нахмурился и сделал вид, что не слышит.
Мы прошли мимо.
Но все же я не выдержала и оглянулась.
Тетя Сима стояла у канавы растерянная, готовая заплакать. И в это мгновение стало даже жаль ее.
Вечером, когда стемнело, кто-то робко постучался к нам со двора.
Я сбежала вниз. Смотрю: стоит на крыльце женщина, закутанная с головой в платок.
— Вам к доктору?
— Да.
Она стала подниматься по лестнице к папе в кабинет. Я была убеждена, что это какая-то пациентка, которой потребовалась врачебная помощь. До войны к папе приходили нередко.
Немного погодя слышу возбужденные голоса и затем чей-то горький, тяжелый плач. Я не выдержала и вошла к папе узнать, в чем там дело.
В его комнате окно было зашторено, на столе горела лампа.
В углу около папиного стола сидела женщина и, прислонившись головой к книжной полке, навзрыд плакала. Лица ее не было видно под платком, но теперь уже я с одного взгляда узнала тетю Симу.
Она не обратила никакого внимания на мой приход, только посмотрела на меня рассеянным, невидящим взглядом.
— Легко ли честному человеку переносить всякую понапраслину, — сказала она сквозь слезы.
Папа смущенно молчал, и по его лицу было заметно, что он страдает, как это бывало всегда с ним при виде плачущей женщины. Он взял меня за руку, словно ища поддержки, и хотел что-то возразить, но в это время тетя Сима подняла мокрое лицо и с обидой проговорила:
— Да вы же сами его, Анатолий Сергеевич, пестовали. Нам так пеняете: и продажные мы души, и уж будто мы перед фашистами выслуживаемся, и всяко-то нас корите, а сами этого же Курта перевязывали и рану ему очищали, йодом мазали и мазью. Уж кому бы другому говорили, а я-то все видела. Разве я немцам что говорила? Сами они пишут, чего выдумают себе на выгоду. Да неужто они меня спрашивали, чего им писать?
Разгорячившись, она совсем уже перестала плакать, но вдруг взгляд ее упал на меня, и она опять принялась часто-часто всхлипывать, едва выговаривая сквозь слезы:
— А теперь вон до чего дошло: даже дочь ваша против меня идет, смотреть на меня не хочет, и вы на меня не оборачиваетесь. Да что я прокаженная какая, или что?..
— Постойте, постойте! Вы говорите, я этого Курта перевязывал? — воскликнул папа.
— Так неужто же нет? Какого же еще? Да вы сами поглядите на картинку-то ихнюю, если мне не верите.
Отец озадаченно повернул немецкую листовку, лежавшую тут же на столе, и начал ее внимательно разглядывать.
— Но ведь вашего немца зовут Курт Штольц, так там написано? А пленного, которого я перевязывал, звали совсем иначе — Клемме. Генрих Клемме, — пробормотал он с сомнением в голосе.
— А мы и сами не знали, как его зовут, — сказала тетя Сима, всхлипывая опять.
— Ты слышишь, Тоня, она говорит, что это (он ткнул пальцем в плакат) тот самый пленный.
Я молча пожала плечами. Что я могла сказать?
— Да он тут в госпитале, в нашей школе. Посмотрите на него, может, вас пустят?
Тетя Сима опять заплакала.
— Перестаньте! — крикнул отец. — Лучше расскажите толком, как он попал к вам.
— Как попал? — тетя Сима вытерла лицо кулаком. — Увязался за мной да и все. Когда стрельба началась, я в сарай забилась, за дрова. Испугалась, правду сказать. Вот, думаю, не молилась я, смолоду в церковь не хаживала, а ну как убьет меня, господи прости. Только уже потом, как утихло все, я и вышла. Гляжу, мертвый лежит на дворе. Страшно-то как! А нет никого вас. Скорее, думаю, надо домой.
Только прошла огороды, оглянулась: идет кто-то за мной… Я остановилась, и он было остановился. Пошла дальше — он тоже идет. Ну, чисто, как кошка!.. Потом оглянулась, а он упал, лежит — встать не может. Подошла я, гляжу — тот это самый, которого вы перевязывали. Господи, думаю, человек же он или нет? А уж вижу, ослаб совсем. И чувства в нем нету. Вот и взяла его в дом. Потом, думаю, к Огородникову сведем, когда племянница, мол, появится.
— Куда? — спросил папа.
— За реку, к партизанам.
— А разве они там есть?
— А что же вы думаете: везде есть, а у нас нету! Вон и Пелагея моя небось с ними.
— Ну, а как же немец? — опять спросил отец.
— Слаб был очень, в жару все бредил. И все не по-нашему. Приподымется чуть, глазами заворочает и ну бормотать. А про что он? И что ему надо?
Тетя Сима поправила волосы рукой и вздохнула.
— А ну как, думаю, помрет он у меня. Грех на мне ляжет. Да и горя не оберешься, если узнают… Гляжу: у нас в школе ихние санитары появились. Взяла да им и сказала… Теперь, слышь, поправляется.
Папа задумался.
— Курт Штольц, Курт Штольц — повторил он несколько раз. — Почему же тогда Курт Штольц?.. Я должен увидеться с этим немцем! — Он взял со стола листок бумаги и стал писать что-то.
— Так уж и ты не кори меня, Тоня! — сказала тетя Сима, поворачиваясь ко мне.
Сколько простодушной честности было в ее словах! Я почувствовала внезапную боль от сознания своей вины, бросилась, обняла и спрятала лицо в складках ее шерстяного платка. Что-то совсем родное почудилось мне в ее добрых, сильных морщинистых руках, которые легли мне на голову. Глаза мои против воли наполнились слезами. Тайные и явные волнения этих дней прорвались наружу: я не на шутку расплакалась.
Тетя Сима принялась утешать меня приговаривая, что это она сама меня разволновала по своей глупости.
Она не знала, что, плача, я думала не только о ней и о том, что у нас произошло, я думала о Смолинцеве, и тревожные предчувствия сжимали мне горло.
Папа сам проводил тетю Симу до ворот и осторожно, стараясь не стукнуть щеколдой, запер калитку.
ГЕНРИХ КЛЕММЕ ПОСЕЩАЕТ СОБСТВЕННУЮ МОГИЛУ
Генрих Клемме лежал на железной койке в бывшей учительской, той самой, где месяц назад находился Смолинцев.
В школе по прежнему размещался госпиталь, только теперь — немецкий. Раньше линия фронта была по ту сторону школьной усадьбы, за рекой, теперь — по эту сторону, за вокзалом; раньше за линией фронта были немцы, а школа находилась в тылу у советских войск; теперь за линией фронта — русские, а школа находится в ближнем немецком тылу.