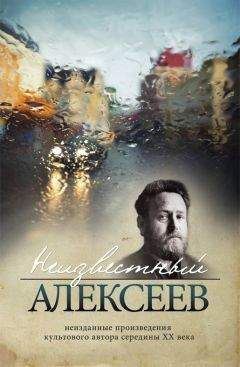Игорь Гергенрёдер - Комбинации против Хода Истории[сборник повестей]
— Это невозможно! Он опасный враг, многолетний провокатор царской охранки! Ему вынесен смертный приговор партией эсеров.
— Очэн сожалею, — сказал чех невозмутимо. — Нам нужно его взъят! — кивнул двум легионерам. Те встали у Володи по бокам.
Котера щёлкнул каблуками, слегка поклонился Роговскому и чётким шагом вышел.
13
В вагоне чешской контрразведки заговорили и барышня, и «лапоть». Знали они много, и в одну ночь в Самаре был схвачен весь актив большевицкого подполья. Ничего обиднее для красных не представишь: ведь к вечеру следующего дня белые оставили город. Их «прощальный привет» будет назван «одним из самых остро–драматических», «горчайших» моментов Гражданской войны.
Виновник случившегося покинул Самару с нежданным комфортом, в обществе чешского майора. Поезд в осенней ночи катит на восток; вагон первого класса — купе отделано красным деревом, пружинные диваны, яркие плюш и бархат, на окне — шёлковые занавески.
Ромеев и Котера сидят за столиком друг против друга. Светло–каштановые гладкие волосы офицера плотно прилегают к голове, любовно подрубленные усики выведены в ниточку; цвет лица — кровь с молоком.
У Володи потрёпанное жизнью простонародное лицо, вид неважный: воспалённые глаза, распухшие, разбитые губы, щетина.
Чех угощает, окая, делая неправильные ударения:
— Кушай, дрогой друг. Ты отличился здрово! Очэн много помог!
На столике — открытые банки с консервами, белые булки, графинчик с клюквенным морсом, плоская аптекарская фляга спирта.
— Мне бы дальше работать, господин майор! Во всю силу! Дайте такую возможность. Грешно клясться, но чем хотите поклянусь — не пожалеете!
Котера протянул ему позолоченную американскую зажигалку:
— Будешь роботат! Тебе додим всё право, — улыбкой и тоном выражая похвалу, произнёс с ударением на втором слоге: — Заслужил.
Ромеев поблагодарил растроганно:
— То дорого, что признаёте меня.
Чех налил ему, себе по полстакана спирта, разбавил морсом. Провозгласил тост за поимку большевицких разведчиков на всех станциях от Уфы до Владивостока!
Выпили, Володя уничтожает булку, Котера со вкусом, не спеша, закусывает сардинами, копчёной колбасой, становится словоохотлив.
Русский народ, говорит он, очень большой народ. Чересчур великий. Слишком богатый. Уже много столетий они не испытывают иноземного ига, не знают железной необходимости беречь своих людей, чтобы выстоять, сохраниться. Они без удержу размножились до того, столь много захватили природных богатств, что от переизбытка развязали братоубийственную войну:
кровожадно истребляют друг друга, уничтожают неисчислимые горы
имущества.
Легионеры помогают белым, сочувствуют им всем сердцем. Но белые
остаются русскими. Ведут войну расточительно, бестолково, с пренебрежением к рассудку. Белым начальникам наплевать, что Ромеев отдавал им в руки красную агентуру, десятки скрывающихся комиссаров. Начальство из варварского чувства мести, из пристрастия к безмозглой жестокости желало замучить полезного человека. А то, что подполье сохранится, что из–за этого последуют военные поражения, погибнут тысячи храбрых честных добровольцев — тьфу на это!
Володя слушал, сжимая стакан сильными узловатыми пальцами, опустив голову; сальные пряди свесились, по щеке с отросшей щетиной покатилась слеза.
Чех продолжал: русским было дано неимоверно много не просто так. На них возложена ответственность за всё славянство. Свои неизмеримые силы они должны были бросить на освобождение порабощённых братьев–славян. Драться, если будет нужно, хоть сто лет! Победив Наполеона, Россия должна была воевать с Австрией, с раздробленной в то время Германией, чтобы дать независимость Чехии, Словакии, Польше. Но Россия захотела покоя и дальнейшего обогащения: принялась покорять Кавказ…
Володя с отчаянно–горестными, жалобными глазами вскричал:
— Вы указуете: мол, непомерно много всего есть у русских. Но народ–то раньше, чай, ещё тяжеле жил! От зари до зари — в работе. У кого есть лошадёнка, а у кого и нет. Кто мясо три раза в год ел, а кто, поди, его и вовсе не видел, иные хлеб с сосновой корой пекли. А война — это ж совсем разор! Куда ж год за годом биться — против эдаких стран?
— О-о, русские умеют очэн здрово переносит бедност! — Котера ловко подхватил вилочкой складного ножа рыбку из банки. — Они — такой народ особовый!
Рассказал, что видел старика, жившего в «жилище», в каком чехи кур не станут держать. У старика не было ни одного зуба. Он брал деревянную
колотушку, клал в глиняную посудину варёный картофель, толок вместе с кожурой, заливал тёплой водой. Только этим и питался. И был весел! Шутил, подмигивал — или подолгу молился. Говорил, что благодарит Бога.
И сколько, изумлялся майор, довелось ему увидеть других русских, которые шутили, даже пели, когда, казалось бы, и для рыданий им неоткуда было взять сил.
По его мнению, эта способность была подарена русским для того, чтобы они могли приносить жертвы за весь мир славян. Но Россия не отдалась всецело жертвенной борьбе. И наказана за эгоизм: русские бешено бьются друг с другом. Всё, что Россия скопила, не вступив в столетнюю войну за славянское дело, истребляется теперь. Судьба взимает жертвы, не принесённые в своё время. Её не обманешь…
— Умело сказано, хитро повёрнуто! — кивал Володя. — Но то правда: люди мы придурошные… — пил спирт, запрокидывая голову, острый кадык ходил вверх–вниз.
И не заикнулся Ромеев в разговоре с чешским майором, что, мол, «не расейский я».
Молодой легионер, веснушчатый, с маленькими, в светлых ресницах глазками, по–петушиному лёгкий и бодрый, принёс шипящую сковороду с
жареной свининой.
Котера с выражением удовольствия от собственного гостеприимства пояснил:
— Любимая еда чехов! Это то, чем каждый чех гостя угостит от всей души.
Володя глядел хмуро–непонимающе.
— Вы, под австрийцами, это всем народом ели? И… плачете?..
Майор рассмеялся: разумеется, этим людям не понять, отчего плакал его народ… Чтобы у чеха ещё и свинины не было?..
— Это не можно никак! Нельзя представит в природе!
Воцарилось молчание, глаза Володи сделались углублённо–внимательными и вместе с тем рассеянными, словно не на еду он смотрел, а за некий занавес проникал взглядом.
— Стало быть, у вас хоть сытость была, — заметил как–то мимолётно. — А у нашего мужика — ни сытости, ни воли.
Вдруг с дикарской непосредственностью, по–волчьи тоскливо запел:
Степь да степь кругом,
Путь далёк лежит…
Оборвав, надрывно–хрипяще прошептал:
— И всё одно: коли плачете — и вас жалко.
— Плакать, жалко — как это русско! — одобрил Котера. Подчёркивая уважение к Ромееву, он перешёл на «вы»: — Вы — специалист старой полиции, служили самодержавию, а мы, чехи, по своим большинстве — социал–демократы. Но я жалкую вас, мне жаль о вашем великом страдании, когда — что вы любили, служили на что — разваливайтся ужасно…
Володя с лихорадочностью возразил:
— Страданье–то моё было раньше, когда я пареньком обретался среди грязи да когда первого марта четырнадцатого года бесстыдно вышибли меня со службы. — Он смотрел на чеха страстно–убеждающе, стремясь заставить его понять: — Моё об себе понимание стало разваливаться.
Зачем я таким, какой я есть, послан жить, если не дают мне оберегать Россию? Или нет у меня назначения, а только сам я обманывал себя?
От этих мыслей стояли у меня в глазах сук и верёвка…
— Зато уж теперь я — в ра–а–дости! — вдруг вскричал с детским ликованием, на щетинистом подбородке дрожали прилипшие крошки. — На то я в жизнь послан, на то меня жизнь в щёлоке варила, на огне калила, чтобы в нынешний момент — самый для России смертельный — я вызволять её мог!
Котера решил, что русский пылко предвкушает возможности для наживы, которые ему открывает служба в чешской контрразведке. «Пусть берёт, сколько сможет, — подумал майор, — лишь бы очищал станции от агентуры».
Железная дорога была жизненно важна для чехословаков. Только по ней они могли добраться до Владивостока, откуда и отплыть на родину.
* * *Другие эшелоны белых тащатся в оренбургском направлении. В теплушке,
расположившись на полу, беседуют приятели Ромеева. Масляный фонарь бросает слабый дрожащий свет. Лушин, выпивши и потому в хорошем настроении, признался:
— Не верил я, что Володя столь крупно будет прав. И-ии… на–кось! Как начали к вокзалу свозить: и тебе китаец, и голубятники — сынок с папашей, — и комиссары… — он злорадно рассмеялся: — Эти–то уже кожанки натянули! в потайных фатерах досиживали: вот–де щас наши придут… Лежат теперь у пакгауза… А то б Володя висел в петле… — он шмыгнул носом, тыльной стороной ладони вытер слезу. И вдруг воскликнул с воодушевлением: — Чехи-и! Сделали!