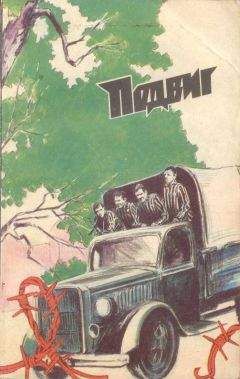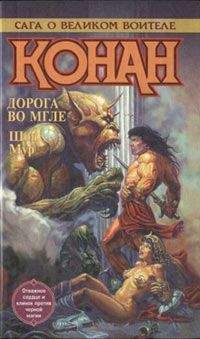Душан Калич - Вкус пепла
Сидим и чего-то ждем, а чего — не знаем. Саша уже давно ушел, а теперь пропал и Анджело. Наверное, пошел за ним. Они о чем-то договаривались. К их возвращению, я думаю, Зоран кончит купаться, и мы, собравшись вместе, сможем поговорить по-настоящему. Если будут молчать, начну я. Кто-то ведь должен… Мы должны примириться с мыслью, что по домам разъедемся такие, какие есть, с тем, что доктор Краус всадил в наши тела, с тем запасом жизни, какой он нам оставил… Единственно, на что мы можем надеяться, — наши врачи помогут нам, а если нет… Время покажет, что там написано на нашей коже…
Спрятавшись на сеновале в хлеву просторного двора одинокого крестьянского дома, Фреди Хольцман как будто впервые в жизни ощутил запахи, от которых с удивительной легкостью погружаешься в сон. А у него и душа и тело были утомлены от страха и блуждания по лесу, из которого он еле выбрался. Он бежал изо всех сил, спотыкался и падал, ноги отнимались, он пугался то теней столетних деревьев, простиравших над ним свои ветви, то шуршания в густом, ощетинившемся кустарнике; перед глазами маячили видения расстрелянных или повешенных дезертиров и тех несчастных из лагеря, о ком Мюллер рассказывал, что они, подобно вампирам, бродят повсюду и одному богу известно, какую они замышляют месть.
Перепуганный до ужаса этими привидениями, он начал раскаиваться, что послушался Мюллера, и стал подумывать о возвращении. Может, он так и поступил бы, если бы вдруг не вышел из лесу и на краю зеленой поляны не увидел этот крестьянский двор. Здесь он забыл обо всем; он постепенно освобождался от страха и предался размышлениям о скором возвращении в родительский дом. Какое-то время он ощущал брезгливое чувство — ему казалось, будто весь он пропитан потом Мюллера. В то же время это ощущение подогревало в нем желание поскорее добраться до дома, чтобы вымыться и переодеться. И именно в тот момент, когда он совсем расслабился и, опьяненный запахом сена, предался мечтам, душа его похолодела от страха.
Из полудремы его вывел скрип дверей хлева. Он вскочил как ошпаренный и сразу же подумал о бегстве через пролом в стене, откуда через двор и сад он снова мог попасть в лес. Остановило его постукивание деревянной обуви. Он надеялся, что это кто-то из хозяев, со стороны которых ему вроде бы не должна была грозить опасность. Встречу с ними он допускал с того момента, как спрятался здесь. Страх вызывали у него лишь привидения из лесу и мысль о фольксштурмистах — этих оголтелых бездушных нацистах в гражданском, которые вылавливали дезертиров и имели полномочия казнить предателей на месте. Несколько успокоившись, он посмотрел в щель между досок перекрытия и вздохнул с облегчением. Внизу была женщина с ведром в руках. «Очевидно, пришла доить коров», — подумал он. Затем сам удивился своему безумному желанию напиться парного молока, настолько ее появление умиротворяюще подействовало на него.
С тех пор как он сюда пришел, он видел ее дважды. Первый раз, когда оказался близ усадьбы и из сада осматривал дом. Второй раз чуть позже, когда уже укрылся на сеновале и его внимание привлекло ржание лошади во дворе. Тогда там был еще какой-то старик. Он сидел в телеге, а она держала коней под уздцы и вела их к воротам. Старик уехал, а она вернулась. Сначала оставалась во дворе, кормила скотину, и он долго за ней наблюдал. Она была молода и красива, загоревшая под весенним солнцем. На лице лежала тень грусти, гасившей блеск ее красивых глаз, с которым она в этом возрасте должна была бы смотреть на мир. Когда и она ушла, из дома больше никто не появлялся. Это убедило его, что в доме женщина живет лишь со стариком, по-видимому, близким родственником. Так он освободился от опасения, что попал в дом фольксштурмиста.
Необъяснимое желание напиться молока, охватившее его, когда он увидел женщину, быстро прошло, и он всерьез начал подумывать, как ей объявиться. Что-то его прямо-таки тянуло сделать это, просто выйти и объяснить ей, что оказался он здесь без всякого злого умысла, что он Фреди Хольцман из соседнего Линца, один из усталых солдат, которому необходимо немного передохнуть, а затем он уйдет, как пришел… Здесь он оборвал себя, столкнувшись с вопросами, на которые неизбежно придется отвечать, если он в самом деле собирался предстать перед этой женщиной. Он полагал, что находится на своей родной земле, среди своих людей, которых, очевидно, как и его, терзает страх перед надвигающейся грозной вражеской силой, с нарастающим гулом заявляющей о своем приближении. Он спрашивал себя, может, и они волнуются за судьбы своих близких, кого военный вихрь забросил бог знает куда без всякой надежды вновь увидеть родной дом. Вопросы стремительно сменяли друг друга и словно жала разили его в самое сердце. Они возникали с такой скоростью, что он не успевал отвечать на них, и так продолжалось до тех пор, пока эти же вопросы не привели его к весьма простой истине: он сам себя вернул на землю из тех фантазий, которым поддался, опоенный ароматом сухого клевера и разглядывая красивое лицо молодой крестьянки. Это признание несколько успокоило его совесть, и он сразу же попытался найти ответы и оправдания своим поступкам. Он даже не почувствовал, что тем самым ставит себе новые ловушки.
Хотя он никогда не рассуждал как солдат и себя не считал настоящим солдатом, в голову ему прежде всего пришли такие мысли: если так, выходит, для этой женщины и этого пожилого человека война еще не кончена… Для тех, кто ждет возвращения своих, войны не кончаются, пока их близкие не возвращаются домой или не приходит сообщение, что они навсегда остались где-то на поле брани… Были это лишь новые уколы воспоминаний, вместе с которыми он начал чувствовать, что запах Мюллера, который словно бы впитала его кожа, пересиливает аромат сена и дымившегося на полу хлева навоза. Эти запахи окончательно спустили его на землю. Он понял, что своим появлением перед этой женщиной или стариком — все равно — вызвал бы у них только презрение, потому что они попросту считали бы его жалким дезертиром. Так, увидев себя в подлинном свете и дожидаясь удобного случая, чтобы незаметно и неслышно выбраться с сеновала и продолжить бегство, он перестал раздумывать, как освободиться от формы. Однако ненадолго. Опять начал все сначала. Он был беглец — дезертир. В лесу он выбросил ремень, револьвер и все документы. На нем осталась лишь форма, правда, без знаков различия войск СС, от которых он прежде всего избавился, но тем не менее немецкая. Она могла выдать его неприятелю и тем, для кого война не кончилась, кто еще намеревался продолжать войну. «Почему бы мне не обратиться к этой женщине? В обмен я бы дал ей ту цепочку с золотым медальоном, которую мне подарил доктор Краус… Мне ведь многого не надо. Могла бы дать самые обычные крестьянские лохмотья…» Здесь он опять остановился. Словно громом пораженный. С ужасом обнаружил, что женщина не одна. Рядом стоял один из тех, что мерещились ему в лесу: человек из лагеря с лицом ожившего мертвеца…
Из затянувшегося оцепенения его вывело мычание потревоженных коров и звук шагов: глухое, эхом отзывавшееся равномерное постукивание деревянных башмаков по бетонному полу. Дрожа как в лихорадке, он зажал руками уши, погрузил лицо в сено, однако постукивание деревяшек отдавалось в голове, и перед внутренним взором опять возникали лагерные картины: узкие, длинные, ослепительно белые коридоры блока, где проводил опыты Краус; колонны нагих тел, живые скелеты, обтянутые серой прозрачной кожей, ледяной блеск, застывший в глазах узников, от которого каменные беленые стены превращаются в глыбы льда… На босых ногах с отекшими и посиневшими ступнями — огромные деревянные башмаки. Топ-топ! Топ-топ! Топот идет словно из бездонной пропасти ада… Замыкает колонну он сам. Он узнал свое лицо, хотя и на этот раз, как всегда, когда с Брухнером и сопровождающими его эсэсовцами с овчарками отводил этих несчастных к доктору, — оно было известково-белым, с ничего не видящими глазами. В адском громыхании деревяшек он услышал выстрел бича Брухнера и его ор: «Los! Los![5] Безмозглые! Обратно вам уже не придется топать. Фреди, объясни им, какая карета их дожидается!…»
…Свет рефлектора и белые холеные руки доктора Людвига Крауса, согнутые в локтях и поднятые на уровень лица. И еще руки — с грубыми, мясистыми пальцами на кистях-лопатах — натягивают ему резиновые перчатки…
По другую сторону операционного стола из камня и бетона — обнаженный узник. Ослепленный светом рефлектора и белизной голых стен операционной, он тупо глядит в потолок, растерянный перед непостижимостью своей судьбы. Доктор Краус стоит к нему спиной. Он не любит смотреть в лицо пациенту перед тем, как того положат на стол. Гауптшарфюрер Шмидт стоит возле него и что-то шепчет. Похоже, поторапливает. Краус громко отвечает, почти кричит. Голос отдается в белой пустоте: