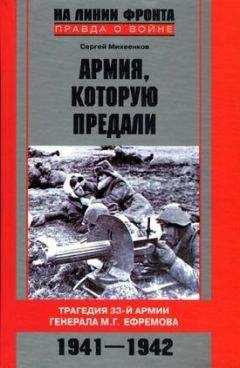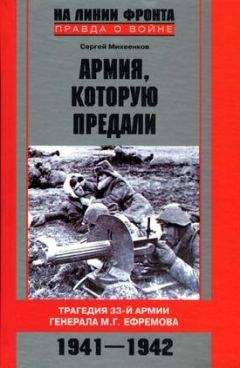Георгий Березко - Дом учителя
А ныне вот в этой древней обители за приземистой аркой входа поселилось то, что повергало Лену в трепет, — человеческое страдание. Стараясь не задерживаться взглядом на трехэтажном красном здании монастырской гостиницы, которым оно завладело — это живое страдание, Лена почти бегом пересекла мощеную соборную площадь. Еще весной она танцевала тут, а сейчас одноногий человек в байковом халате учился на этих плитах ходить с костылями; после каждого шага-прыжка он останавливался, шатаясь, и, обретя равновесие, вновь взмахивал своими деревянными скелетными крыльями. На ступеньках собора сидели другие раненые — все в каких-нибудь повязках: в марлевых чалмах, в марлевых непомерных рукавицах или в марлевых толстых валенках. Сутулый санитар пронес на плече свернутые носилки, как носят лыжи.
Только перед кладбищем Лена обернулась: сзади, держа руки в карманах, сняв шинель, свернув и перекинув ее через плечо, подходил Федерико; он громко высвистывал «Под крышами Парижа». Это было уж слишком, и Лена не удержалась:
— Зачем вы? Разве можно?..
Он не уразумел:
— Что?
— Ну вот… свистеть.
Федерико посмотрел на нее своим синим, прямым взглядом.
— Мадемуазель боится, что это не понравится мертвецам? Но, может быть, это их немного развлечет, — сказал он.
Лена не сразу его поняла, удивленно вгляделась — и, не поняв, ахнула: ее новый друг и подопечный был, что там ни говори, великолепен!
Некогда кладбище от монастырского двора отделяла еще одна стена — поперечная, от которой остались кое-где лишь кучи потонувших в траве кирпичей… И могилы начинались тут же… Под засквозившими осенними березами, под темными, опутанными паутиной елями стояли вразброс, покачнувшись и как бы застыв в падении, кресты; торчали из пожелтевшей травы каменные пни — постаменты свалившихся памятников, иногда косо выпирала замшелая, осыпанная палой листвой гранитная плита с едва различимой эпитафией… Лена в свое время пыталась прочитать эти остатки надписей, и к ней, словно в невнятном бормотании, доходили странные имена, позабытые названия служб, состояний: «…Иов, глаголемый Тулупов…», «…шляхетский муж Серапион», «…сотенный голова…», «…архимандрит Дионисий…», «…брат Макарий», «инок Филарет» и общее для всех: «…раб божий».
В передней части кладбища были погребены монахи высших чинов и военачальники: монастырю когда-то, в Смутное время, пришлось выдержать долгую осаду. А чем дальше в парк уходила дорожка, тем реже встречался в надгробиях камень и тем больше было деревянных крестов. От иных остались только черные, точно обгорелые, вертикальные столбы, а надписи, смытые дождями, вовсе отсутствовали; здесь лежали простые чернецы и рядовые дружинники — целая безымянная рать, ушедшая в землю… Боковое, на закате, солнце пронизывало мохнатую хвою, обстреливая кладбище своими золочеными стрелами, множеством светлых стрел, и там, где они падали, загорались и светились стволы деревьев, земля, трава.
Еще дальше, на открытой солнцу широкой полянке, покоилась другая рать, также павшая на этой земле; тут уж соблюдалось воинское равнение. Новые могилы, прикрытые увядшими ветками, обложенные дерном или совсем голые, лишь с табличками на столбиках, воткнутых в примятые лопатами холмики, тянулись правильными шеренгами, как в строю. И Федерико подвел Лену к крайнему, заваленному еловыми лапами холмику в самом дальнем ряду.
— Янек здесь, — сказал он отрывисто и, отступив на шаг, встал позади девушки.
Он оглядел ее узкую, стебельковую фигурку, ее загорелые до шоколадной черноты ноги с удлиненными икрами, с детскими щиколотками, — и глаза его сделались злыми, потемнели… Казалось, эта глупенькая девчонка одна была виновата в том, что он, похоронив сегодня своего единственного друга, собирался тут же, на кладбище, предаться с нею любви. И конечно, если б не она — влюбчивая причастница, то его, Федерико, не беспокоило бы сейчас это недовольство собой: вероятно, ему следовало все ж таки отложить свои забавы хотя бы на завтра. Федерико сердился на подвернувшуюся «под руку» девчонку тем сильнее, чем хуже себя чувствовал; но, чем больше он сердился, тем меньше способен был отступиться от нее.
Лена нагнулась — ее распущенные волосы соскользнули с затылка, обнажив тонкую шею с ложбинкой, приподнялась юбка, открыв нежные подколенные ямки — и осторожно, точно боясь разбить дубовую веточку, положила ее на еловую лапу. Выпрямившись и полюбовавшись, она опять нагнулась и переложила веточку так, чтобы выгоднее на темной игольчатой хвое раскинулись светло-зеленые кружевные листья. Острее, чем когда-либо, она ощущала себя сейчас в некоем художественном произведении, в пьесе, в поэме, — она как бы видела со стороны и это их одинокое стояние над свежей солдатской могилой, и себя — печальную и нарядную, и рядом с собой этого синеглазого чужеземца с курчавой маленькой головой, тоже воина и героя! И вся эта картина: золотой вечер, тишина, бедное кладбище героев — показалась ей прекрасной, полной поэзии, в носу у нее защекотало, защемило, и она заплакала — не потому, что так уж печалилась о человеке, в сущности ей чужом, — ее охватило волнение, какое бывает от хороших стихов, от растрогавшей книги. Ее руки сами собой крестом сложились на груди, она всхлипнула и залилась слезами, доставлявшими такое высокое и такое приятное переживание.
— Мадемуазель! — раздался хриплый голос за ее спиной, — что это вы?
Федерико не ожидал этих слез, и в первый момент увидел в них одно притворство.
— Ладно, ладно, — сказал он. — Янек задал бы вам трепку. Бросьте это…
— Хорошо, — пролепетала Лена между двумя всхлипами.
— Ну, довольно! — прикрикнул он, сердясь: ее рыдания мешали ему. — Пойдемте…
Обернувшись, она подняла на него застланные прозрачной влагой сияющие глаза.
— А где его семья, дети? — спросила она.
— У кого? Какая семья? — Федерико готов был разразиться бранью.
— У камарада Ясенского. В Польше, наверно?
— У Янека?.. Семья?.. Не знаю, Янек не говорил… — Не сдержавшись, он закричал: — Не было у него никакой семьи! Никого у него не было!
— О, это правда — никого? — переспросила Лена. — Почему?
— Откуда я знаю!.. У революционера не может быть семьи, — сказал он с досадой.
— Но почему? — подивилась Лена.
— Революционер должен быть совсем свободным. Янек был настоящий революционер — он всегда шел туда, где начиналась революция… — Словно с неудовольствием, он добавил: — Его семья — все угнетенное человечество.
Лена длинно вздохнула: слова Федерико были прекрасны, как и весь этот вечер. «Его семья — все угнетенное человечество». Что могло быть лучше?.. И слезы вновь потекли по ее щекам, сбегая к уголкам задрожавших губ.
— Но вас он тоже любил… да? — спросила она.
Федерико туповато уставился на нее: они с Янеком никогда не объяснялись в любви.
— Ну, допустим, — сказал он.
— Вы были с ним одни, совсем, совсем… Вы были отверженные, — другого подходящего французского слова у Лены не нашлось.
И она зарыдала громко, в голос. «Пожалуй, это даже чересчур», — мелькнуло у нее в голове, но она слишком глубоко прониклась уже своей ролью, она жила в ней.
Федерико долго молчал, потом, другим голосом, грубовато проговорил:
— Ну, ну, довольно… вытри глаза.
Он невольно почувствовал что-то близкое к благодарности — русская девушка и вправду, кажется, горевала о смерти Янека. А может быть, она рыдала и о нем самом, о его, Федерико, одинокой недоброй судьбе, что было уже совершенно непривычно ему, как-то даже мало понятно. Она согнутым указательным пальцем, как крючочком, стала смахивать капли слез с ресниц, но тотчас набегали новые, она жалко морщилась, плечики ее вздрагивали. И Федерико потупился — смотреть на это было невыносимо.
— Мы их всех — лицом к стенке! — медленно проговорил он. — Всех — к стенке! Как они ставят нас… И очередями из автоматов — как они! Пока не останется ни одного живого фашиста. Всех эсэс, Гитлера, дуче! Очередями по жирным затылкам!.. Не плачь… Очередями по затылкам! Мы набьем их свинцом! Вытри слезы.
Лена попыталась улыбнуться, словно одного его обещания было достаточно, и потянула покрасневшим носом.
— У вас нет… как это?.. Ну, как это?.. Платка?.. — попросила она. — Я забыла дома.
Он повертел отрицательно головой и, спохватившись, вытащил из кармана штанов смятое вафельное полотенце.
— Прости… Пожалуйста!
Не отрываясь, он следил, как она утирала свое мокрое лицо.
— Нам выдали сегодня… на складе, — сказал он, вдруг повеселев. — А носового платка у меня не было сто лет.
Прежде чем вернуть полотенце, Лена аккуратно сложила его в квадратик.
— Спасибо! Надо утешаться, — сказала она. — Я очень жалею. Мы будем всегда помнить камарада Ясенского. Я буду помнить. Вы тоже будете помнить…