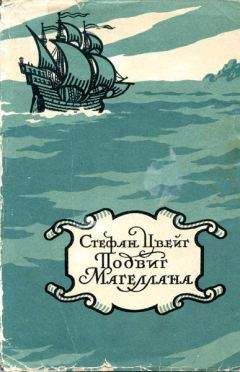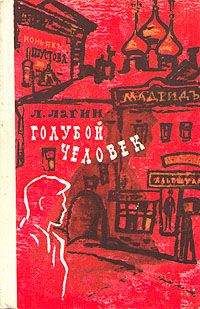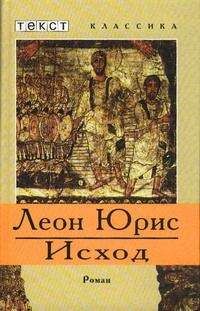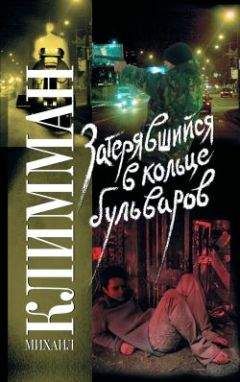Ганад Чарказян - Горький запах полыни
Дед мой докурил последнюю сигарету из пачки — только недавно расстался с самокрутками из собственного табака и все жаловался, что в магазинных нет никакой крепости, — и решительно снял брюки. Остался в белых солдатских подштанниках — признавал только их. Завязал штанины своих плотных брюк и начал аккуратно срезать боровики. За всю свою жизнь такое чудо даровано было ему впервые. Будучи человеком острого и скептического ума, ни в каких богов он не верил, подсмеивался над женой, что по праздникам ходила в церковь, но сейчас впервые задумался: а вдруг действительно есть некий разум, который распределяет что-то между людьми? Одним дает счастье, а другим беду? Но все-таки пришел к выводу, что даже если такое распределение и существует, то все это происходит случайно, без никаких пристрастий со стороны высшей и тайной силы. Просто эта неведомая сила бросает счастье в одну сторону, беду в другую, а часто и вперемежку. И сегодняшней удачей гордиться особо не следует: кто как не он и должен был наткнуться на эту сказочную поляну? Ведь в лесу-то он почти каждый день, особенно в грибную пору.
Когда спросил, а почему он не использовал для грибов подштанники, дед Гаврилка пояснил, что, во-первых, он бы извазюкал их так, что бабушка и не отстирала бы. Ну, а во-вторых, конечно, ну а, может, и во-первых, никто бы не обратил на него никакого внимания. Ну, прошел человек с белым мешком, понес что-то из магазина.
Чего-чего, а внимания деду хватило — после появления на деревенской улице в исподнем со штанами, набитыми грибами и висевшими на нем, как хомут. К тому же в каждой руке он держал по громадному боровику. Историческое явление народу произошло как раз тогда, когда бабы стояли у ворот и ждали коров с поля. Но тут уже надо говорить не просто о внимании, но, разумеется, о славе. Она скоро перешагнула границы не только родной Блони с ее сотней дворов, но и целого сельсовета. И начала расползаться по району, принимая формы уже совсем фантастические.
Тут уж отцовская байка про тайменя потускнела и навсегда ушла в тень. Да года через два и сам отец тоже ушел. Случилось это, когда я был в предпоследнем классе и уже старался учиться так, чтобы иметь аттестат без «троек». Погубило моего отца то, что он так любил: рыбалка. Там он старался проводить любую свободную и даже не очень свободную минутку. Откровенно уклонялся от назревших дел по хозяйству — очистить хлев от навоза, поправить забор — подождут! Некогда, сегодня рыба сама будет выпрыгивать на берег — погода-то какая! Дед Гаврилка ругал его, всячески высмеивал пресловутых карасиков, вербовал в свои сторонники мою маму Регину. Но с этим у него ничего не выходило. Мама никогда ничего не говорила отцу, ничего у него не просила и уж тем более не требовала. Словно героиня сказки: «Что ни сделает муженек, то и хорошо!» Хотя в доме и не было скандалов, — я никогда не слышал, чтобы они ругались, — но напряжение последний год присутствовало и даже понемногу возрастало. Иногда заставал маму в слезах. Тогда сжималось сердце от жалости к ней и бесконечной любви. «Зато хоть не пьет, как другие!» — случайно подслушал однажды ее разговор со школьной подругой Вероникой, которая иногда навещала нас. Она жила в Минске и одна после развода с пьющим мужчиной растила дочь. Тогда я впервые понял, что семейная жизнь очень сложная штука. И самое главное, зависит, конечно, от женщины.
Отец смело и торопливо ступал по мартовскому льду в костюме химзащиты и распахнутом полушубке к своим удачливым воскресным лункам — ради окуней он и отпросился в будний день с работы пораньше, сразу после обеда.
Быстро перекусил дома, собрал причиндалы и, невзирая на мамины просьбы никуда не ехать сегодня, отмахнулся от нее и рванул на водохранилище.
Навсегда запомнилась какая-то очень просительная, необычная интонация и самые последние слова, которые мама сказала отцу: «Игнат, мне надо с тобой поговорить, посоветоваться.» Отец только отмахнулся: «А, делай что хочешь!» — «Игнат!..» — очень нежно окликнула она. Он обернулся: «Ну, ладно, ладно — вечером!» Мать еще постояла на крыльце, глядя вслед отцовской машине, лихо разбрызгивающей лужи, и, смахнув слезу, ушла в дом.
Солнышко и течение за сутки сделали свое дело — лед истончился, а кое-где уже темнели широкие полыньи. Но явные сигналы опасности не остановили отца. Он упрямо шел навстречу своим окунькам.
Колхозный грузовик так и остался дожидаться на берегу. Машину обнаружили на следующий день, а тело нашли только когда сошел лед. В разбухшем отцовском кулаке застыла зимняя удочка, а на мормышке оказался небольшой и живой окунек. Его осторожно отцепили и бросили в воду — живи, ты ни в чем не виноват.
Потом мужики долго судачили: «Вот ведь как получилось — не поймешь, кто на рыбалку пошел: то ли Игнат, то ли окунек. Какого мужика к себе утянул. Это ему наказание вышло за то, что столько рыбы перевел.»
Но письма отцу я тоже писал. Или просто разговаривал с ним о том, чего сам не понимал. И как ни странно, эти разговоры помогали разобраться во многом. С постоянной отцовской помощью мне удавалось отыскать какой-то смысл в происходящем, поверить, что моя сегодняшняя жизнь не случайность, но необходимое звено в той цепи событий, из которых она и состоит. Я пытался взглянуть на все, что произошло со мной, с какой-то почти запредельной вершины. С этой высоты ничего особенного со мной не случилось: ведь я был жив, сыт и здоров. Занимался физическим трудом на свежем воздухе, общался с незнакомыми людьми, пытался понять их жизнь и характеры. В сущности, это была школа, даже университет, если судить по тому количеству практических знаний по психологии, языкознанию, строительству, земледелию, которые невольно усваивал и повторял изо дня в день. И что толку, если бы я предавался бесконечной печали и относился ко всему равнодушно и высокомерно-презрительно?
На какое-то время, — надеюсь, что не навсегда, — в силу сложившихся обстоятельств мне дана именно такая жизнь. Но ведь все-таки жизнь. А некоторых моих товарищей уже нет на этой земле. Их матери получили похоронки и цинковые гробы. Они лишены счастья дышать, любоваться рассветом, есть козий сыр с помидорами и свежей зеленью, с пшеничными лепешками. Я сам видел, как, наткнувшись на фугас, взлетел в воздух многотонный бронетранспортер, который возглавлял колонну, и тут же от прямого попадания вспыхнул и замыкающий. Мы оказались в ловушке — на самом узком участке дороги. Ни свернуть, ни развернуться уже не могли — застыли обреченными мишенями. При всей секретности операции — подняли ночью по тревоге — ясно было, что нас уже ждали. Последнее, что сохранила память: оглушающая вспышка и ударная волна, сдувшая меня с брони, как пылинку.
После этих писем-разговоров с отцом мне казалось, что я тоже становился таким же мудрым, как и он, таким же все молчаливо понимающим и печальным. Вскоре плакать по ночам я тоже перестал. Плачь не плачь — ничего не изменишь. Да и сил на слезы уже не хватало: после рабочего дня, который начинался на рассвете с того, что я доил коз и коров — они были немногим больше, чем козы, и давали только пару литров молока, — а заканчивался поздно вечером с мотыгой в руках, я засыпал сразу, как только бессильно растягивался на своей кошме.
Зато в разговорах на расстоянии с дедом Гаврилкой я учился думать и поступать только по-своему, не оглядываясь на то, что скажут другие. Ведь другие не знают моих проблем, не имеют моего опыта, не знают моих чувств и мыслей. Правда, в практическом применении этих знаний я был очень осторожен. Ведь даже земляки не всегда понимали моего деда, а что касается чужих людей, то мои оригинальные и независимые поступки могли бы стоить и жизни. Но варианты своего возможного поведения я все-таки прокручивал в голове. И, как ни странно, это тоже скрашивало жизнь.
Дед Гаврилка очень переживал смерть отца. Сразу куда-то ушли его задор и способность не задумываясь найти точное и хлесткое слово. По неделям ходил небритый, понурый. И все корил себя, что не назвал сына Глебом, как положено, — так испокон называли первенцев в их роду. Вот назвал Игнатом, пошел на поводу у своей упрямой Регины и — потерял.
— А в каждом поколении Березовиков должен быть Глеб! Ведь на нашем деревенском языке, на мове, «глеба» — значит, почва, — упрямо твердил дед. — А где почва — там и хлеб! А где хлеб — там и жизнь. Обязательно назови сына Глебом. Вот у тебя, Глебушка, все будет хорошо!
— Хорошо, хорошо, — ворчала бабушка, — уже третий цинковый гроб из Афганистана привезли. Даже и не открывали. Кто там знает, кого похоронили, по кому там мать слезы проливает. Чувствую, что и на его долю этой бодяги хватит.
Да и я тоже думал, что имя именем, а судьба судьбой. Вот старший брат деда тоже был Глеб, а с войны не вернулся. Но Афганистана я не боялся, даже думал, что неплохо бы испытать себя на настоящей войне. Тем более за правое дело.