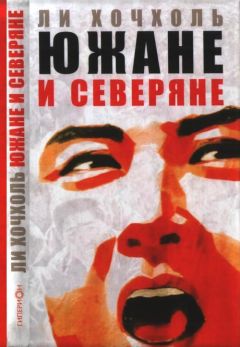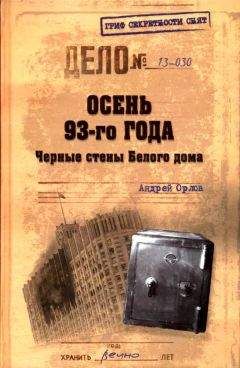Свен Хассель - Трибунал
— Господ — это хорошо, — усмехается лейтенант, доставая из кобуры большой «парабеллум» и наводя его на двух арестантов. — Ничего не имею против. Господа, — трубит он через нос, покачивая в руке пистолет, — должен предупредить вас, что при попытке к бегству эта штука выстрелит! Не думайте, что сможете совершить самоубийство, пытаясь бежать от нас! Вы будете не первыми, кому я попал в копчик.
Он усмехается, как рычащий волк. Явно привык иметь дело с арестованными.
«Странно, что он не из полиции вермахта», — думает обер-лейтенант Вислинг, глядя на белый ремень лейтенанта, но вспоминает, что в пехоте служат и лучшие, и худшие офицеры. Там можно найти как благородного человека, так и последнего негодяя.
— Пойдем, что ли? — усмехается лейтенант, нетерпеливо чуть сгибая и разгибая колени. — По-дружески, разумеется! Поторапливайтесь, господа! Давайте кончать с этим. Мы предпочитаем не находиться в вашем обществе дольше, чем необходимо.
Возле вокзала их ждет крытый брезентом грузовик.
— В машину! — грубо приказывает лейтенант.
— Куда мы едем? — спрашивает оберст Фрик.
— Заткнись, — рычит молодой солдат и бьет его прикладом автомата.
Грузовик с головокружительной скоростью несется по Берлину, сворачивает в ворота помпезного здания Верховного главнокомандования вермахта на Бендлерштрассе, там арестованных ведут в подвал. Там их с грубой любезностью приветствует обер-ефрейтор. Он тоже пехотинец. Им приходится сдать все личные вещи: ремни, подтяжки, шнурки из ботинок. Чтобы не повесились и не избежали трибунала.
— Только раскройте рот, мы пересчитаем вам все зубы, — обещает зверского вида старый солдат с эмблемой СА[45] на нагрудном кармане.
Через десять минут за ними приходят снова и ведут наверх.
Восседающий с надменным видом за письменным столом толстый майор из горнострелковых частей представляется обвинителем на их процессе. Несколько секунд рассматривает обоих, будто скотину, которую собирается купить. Переворачивает несколько листов в лежащей перед ним папке и с довольным выражением лица откидывается на спинку стула.
— Господа, я решил сделать все возможное, чтобы вас осудили по статье 91-а. — Щелкает пальцами. — То есть мы намерены добиться вашей казни, и я почти уверен, что вас повесят. Вы совершили постыдное преступление на Северном фронте. Если вся армия последует вашему примеру, мы вскоре проиграем войну. Но, слава богу, в великой немецкой армии таких, как вы, единицы. Вы будете повешены.
Майор нежно проводит рукой по золотому партийному значку на груди.
— Знаете, что человек может умирать в петле до двадцати минут? — спрашивает он с сардонической улыбкой. — С вами, надеюсь, это продлится вдвое дольше. Мой долг — присутствовать при всех казнях, к которым я имею отношение как обвинитель. Обычно я их не посещаю, но в вашем случае это доставит мне громадное удовольствие. Охрана! — кричит он так, что его голос разносится по всему зданию.
В кабинет испуганно входят двое пехотинцев в полной уверенности, что заключенные напали на обвинителя.
— Уведите от меня этих негодяев! — истерично вопит майор. — Бросьте их в самую худшую камеру!
Камеры в подвале здания на Бендлерштрассе похожи на клетки в зоопарке. Толстые вертикальные прутья отделяют их от коридоров, по которым беспрерывно ходят охранники.
— Свиньи, гнусные свиньи, — шепчет артиллерист-гауптман в камере по соседству с оберстом Фриком. Лицо его распухло от побоев. Один глаз заплыл.
— Что это с вами? — негромко спрашивает оберст. Тело его начинает дрожать.
— Они избивали меня, — шепчет артиллерийской офицер. — Выбили зубы, пропускали через тело электрический ток. Хотят, чтобы я признался в том, чего не совершал.
— Где мы находимся? — с любопытством спрашивает обер-лейтенант Вислинг.
— Третье подразделение армейского трибунала, отдел четыре-а, подчиняется непосредственно начальнику управления военной юстиции, — отвечает некий штабс-цальмейстер[46]. — Не ожидайте ничего хорошего! Обращение здесь грубое. Я провел тут три недели. Будто живешь на вокзале. Впечатление такое, что под трибунал идет половина армии. Скоро никого не останется. Говорят, солдат у нас не хватает, а мы расстреливаем своих быстрее, чем русские.
— Что вы сделали? — спрашивает оберст Фрик, глядя на казначея.
— Ничего! — отвечает тот.
В камере напротив слышится приглушенный смех.
— Где еще встретишь невиновных людей, как не в тюрьме, — язвит обер-ефрейтор.
— За что вы здесь? — спрашивает оберст морского офицера, корветтен-капитана, который сидит в своей камере, беззаботно мурлыча под нос. Левый глаз у него выбит, осталась только красная впадина.
— За пение, — бодро отвечает морской офицер.
— Пение? — удивленно переспрашивает оберст.
— Я сказал именно так.
— За это не могут сажать в тюрьму, — говорит оберст.
— Еще как могут, — отвечает моряк. — Могут посадить и за меньшую провинность.
И начинает негромко петь:
Wir werden weitermarschieren
Wenn Scheisse vom Himmel füllt.
Wir wollen zurück nach Schlickstadt,
Denn Deutschland ist der Arsch der Welt!
Und der Führer kann nicht mehr![47]
— Господам с дубовыми листьями на воротниках[48] моя песня не понравилась. И теперь меня, видимо, повесят.
— Не может быть! — изумленно восклицает оберст. — Людей не вешают за такую ерунду!
— В данном случае вешают, — улыбается морской офицер. — Я пел эту песенку, стоя на мостике своей подводной лодки, когда мы вернулись после налета на базу в Бресте. Моего старпома тоже ждет виселица. Он спросил большого эсэсовского чина, который приехал поздравить нас с возвращением, жив ли еще Grofaz[49].
— Был пьян? — удивленно спрашивает оберст Фрик.
— Нет, просто полюбопытствовал. Какую попойку мы бы закатили, если б кто-нибудь подложил бомбу под Гитлера, пока мы сражались с англичанами!
Разговор прерывает пронзительный вой сирены воздушной тревоги.
По коридору бежит фельдфебель.
— Всем лечь на пол, руки на затылок! В таком положении вы в безопасности от шрапнели. Тот, кто встанет, будет беспощадно расстрелян! — орет он.
Здание сотрясается от взрыва. Свет гаснет, вся тюрьма погружается в темноту. Время от времени свет осветительной бомбы падает на испуганные, пепельные лица.
Тюрьму окутывает гнетущая тишина. Потом слышится грохот взрывающихся бомб. Кажется, они падают градом возле Шпрее. С потолка сыплется побелка. Кажется, что идет снег. Позвякивают разбитые стекла. Течет пылающий фосфор.
Берлин стонет в смертных муках. Непрестанно грохочут крупнокалиберные зенитки на Бендлерштрассе.
— Помогите, помогите, выпустите меня! Мама! Мама! — раздается пронзительный голос ребенка.
— Заткнись, гаденыш! — раздается грубый, командный голос. — Лежи на полу!
Слышатся два выстрела. Загорается лампа. Сдавленная брань, и опять все тихо.
Это час смерти. Смерть за стенами. Смерть внутри стен. Она торопится повсюду. В движении или скорчась в углу, каждый чувствует близость ее холодной тени.
Одни привыкают к ней и становятся флегматичными. Другие сламываются и попадают в унылый сумасшедший дом. Кое-кого утихомиривают ружейными выстрелами. Нервы натянуты до предела по всему городу, в тюрьмах, лазаретах, бомбоубежищах, на улицах, в подводных лодках, в пропахших маслом кабинах танков, в казармах учебных подразделений. Куда ни взгляни, безраздельно правят смерть и страх.
Протяжный вой сирены возвещает конец воздушного налета, но передышка длится всего несколько часов. Потом бомбардировщики с белыми звездами или красно-бело-синими кругами на крыльях появляются снова.
Берлин в огне.
По улицам грохочут пожарные машины. Но им не справиться со своей задачей. Изо дня в день берлинская пожарная служба борется с пожарами от зажигательных бомб.
Из коридора слышится беспокойный, раздражающий шум. Позвякивают ключи. Железо лязгает о железо.
— Проклятье! Этот мерзавец повесился!
— Избавил нас от хлопот, — слышится другой грубый голос. — Поставить бы их всех к стенке и расстрелять из пулемета!
В восемь часов первые заключенные отправляются в трибунал. Под вечер появляется взвод солдат, чтобы увести приговоренных. Больше приговоренные не вернутся. Что происходит с ними, никто не знает.
Однажды утром вызывают оберста Фрика и обер-лейтенанта Вислинга. Четверо солдат ведут их в суд и запирают поодиночке в тесные камеры.
Перед тем, как предстать перед судом, им разрешают недолго поговорить с защитником, дружелюбным пожилым оберст-лейтенантом[50].
— Многого сделать для вас не могу, — говорит он, пожимая им руки. — Но правила требуют моего присутствия. А как вам известно, мы питаем громадное почтение к порядку и правильности.