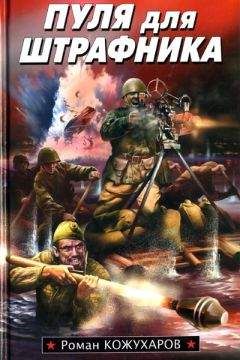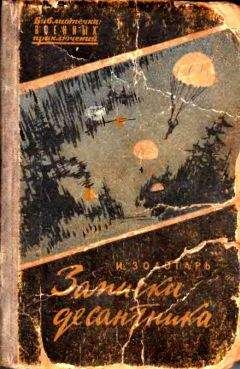Евгений Воробьев - Капля крови
Какой, оказывается, мучительной может быть необходимость соблюдать тишину, когда гибельным может оказаться даже шумное дыхание, покашливание, легкий стон, который не удалось унять, слово, неосторожно произнесенное, шорох, стук.
Черемных с удивительной отчетливостью вспомнил задымленный и окровавленный день 13 июля, когда они освободили город Вильнюс и их танк оказался под конец боя на узкой, кривой старинной улочке, такой узкой, что ему, механику-водителю, не хватало мостовой и одной гусеницей он корежил край тротуара.
Фашисты устроили в том районе гетто. Лишь несколько евреев выжило на улочке, превращенной в кладбище.
Ему показали людей, которые уцелели благодаря тому, что сами замуровали себя; они выбирались из своего убежища, чтобы подышать воздухом, только по ночам, через печную трубу. В семье часовщика, где, впрочем, все больше походили тогда на трубочистов, была двухлетняя кучерявенькая и глазастая девочка; на несчастье, она простудилась и сильно кашляла. А улочку все время мерили немецкие патрули. Самая большая опасность надвигалась, когда патруль шагал по тротуару мимо замурованной стены: он мог услышать кашель. И вот каждый раз, когда шаги часового приближались, дедушка зажимал рот внучке своим ртом, и та дышала вместе с дедушкой через нос. И лишь благодаря этим мучительным поцелуям дедушки выжила девочка, а вместе с нею и вся семья.
Черемных с волнением выслушал тогда сбивчивый рассказ из смеси польских, русских и еврейских слов, перемежаемых причитаниями и всхлипываниями. Этот рассказ записал в свой блокнот корреспондент из фронтовой газеты, в очках и в кожаном пальто, который катался в тот день с десантом на броне. Он напечатал потом в «Красноармейской правде» очерк под названием «Геттэла» — так прозвали девочку, поскольку она выросла в гетто. Черемных послал газету домой Стеше и с тех пор о той еврейской девочке не вспоминал, а тут вдруг она как живая встала перед его глазами. Не потому ли, что Черемных, лишенный возможности не только кашлянуть, но даже застонать, оказался сейчас в таком же положении? Только в том и разница, что семья часовщика проникала в свое убежище через печную трубу, а товарищи — через оконце, заставленное ящиком и заткнутое подушкой…
Теперь их судьба зависит от того, как долго солдаты будут занимать дом и вообще как долго противник удержится в городке.
«А как же наша разведка? — Черемных похолодел от внезапной догадки. — Ведь Пестряков и Тимоша ни о чем не подозревают! Подойдут к дому и нарвутся на новых жильцов».
Только сейчас он понял: товарищи, которым еще предстоит вернуться в подвал, находятся в значительно большей опасности.
Лейтенанту и Черемных нужно лишь быть, что называется, тише воды, ниже травы. А товарищам еще нужно проникнуть в подвал дома, занятого противником!
Хорошо, если новые квартиранты засветили какой-нибудь огонек. Хуже, если в доме темно.
Все сильнее и лейтенант тревожился о тех, кто ушел. Как им дать знать?
Он осторожно вытащил подушку из оконца, прислушался, беззвучно переставил ящик, установил его стоймя.
Пусть хоть это насторожит товарищей.
17
Однако еще до того как Пестряков и Тимоша прокрались во двор и могли заметить поставленный стоймя ящик, они увидели отсветы огня в доме. А ставни со смотровыми щелями раскрыты. В доме — немцы! По-видимому, им тесно в угловом доме, и кто-то из орудийного расчета подался под соседнюю крышу.
«Калибр орудия сто пять, — отметил про себя Тимоша с привычной деловитостью, вглядевшись при отсветах зарева в пушку. — Везут к передовой».
Ему удалось разглядеть на заднем борту машины условный знак дивизии — скрещенные рукоятями топоры, не то черные, не то красные; зарево смешивало все краски.
Сколько же артиллеристы могут проторчать в доме?
Судя по тому, что машина стоит на улице без маскировки, орудие на прицепе, а чехол с дульного тормоза не снят, расчет не занял здесь огневой позиции.
Ну что же, значит, нужно набраться терпения, залезть, пока совсем не рассвело, в какой-нибудь укромный куток по соседству, выждать, когда уберутся постояльцы, а затем проникнуть во двор, узнать, что с товарищами.
Живы ли они? Не вломились ли фашисты в подвал?
Пестряков и Тимоша без особых происшествий забрались на чердак дома напротив, того самого дома с решетками на окнах и с фонарем у парадного. Слуховое окно выходило на Церковную улицу, и оттуда удобно было вести наблюдение.
Как Пестряков и предполагал, артиллеристы остановились только на ночлег. Утром они собрались в дорогу, но собирались непереносимо долго.
Тимоша провожал их проклятиями, длинно и затейливо материл водителя, который напоследок, когда уже вся прислуга орудия расселась в цуг-машине, стал возиться с мотором, потом доливал горючее.
Тимоша таким тоном ругал водителя, словно работал с ним в одном гараже, где тот слыл первым лентяем и недотепой. Будто этот водитель обещал Тимоше давно убраться, а теперь бессовестно подвел.
Цуг-машина скрылась из глаз, когда стало совсем светло: как говорится — рассвет уже успел оглядеться.
Перейти через улицу невозможно, и дорога в подвал отрезана. Следовало набраться терпения и ждать темного вечера.
Впервые за долгое время Пестрякову пришлось забраться днем на высоту третьего этажа: пехотинец чаще прячется в погребе, нежели на чердаке.
Отличный обзор открывался из слухового окна.
Сверху было явственно видно, что город основательно пострадал от бомбардировки и обстрела. Тут и там виднелись свежие развалины.
Кое-где над городом подымались дымы. Но при этом все трубы, из которых надлежит идти дыму, оставались холодными; виднелись только дымы пожаров.
Особенно сильно пострадала кровля городка, морковно-бурачная пестрядь островерхих черепичных крыш. У одних домов торчали голые стропила, а все черепки, стронутые взрывной волной со своих мест, беспорядочно ссыпались к карнизам. У других домов оголился лишь конек крыши, а черепица кое-как удержалась на крутых скатах.
Онемевшие антенны торчали на крышах — одни во весь рост, другие покосились, пригнулись, переломились.
За тот день, который разведчики продежурили на чердаке, разрушений прибавилось. Наша тяжелая батарея часто устраивала артналеты. Осыпалась, крошилась черепица, и черепки летели заодно с осколками, вслед за ними.
Зрелище полуразрушенного города ничуть не огорчило Пестрякова. Этот город жил в глубоком и безопасном тылу, когда горело Непряхино. Этот город развлекался, когда истекал кровью Смоленск, он торжествовал, когда бомбили Москву. Этот город веселился, когда рушились дома Сталинграда, и злорадствовал, когда голодал Ленинград. В этом городе тоже, наверно, был устроен невольничий рынок. Да это и не город вовсе, а одна большая казарма! И памятники здесь поставлены одним только генералам. Во-о-он она виднеется вдали, вывеска мужского портного, и на портновской вывеске тоже не пиджак, а гитлеровский мундир красуется. А сегодня представление о городе как о казарме еще больше укрепилось, потому что за весь день Пестряков не увидел на улицах ни одного штатского.
С каким прилежанием и упорством вел Пестряков после ночной слепоты наблюдение! Жаль только, что день выдался пасмурный и видимость скверная.
Он смотрел и вновь всматривался, пока дальнозоркие глаза его не затуманила усталость. Поглазеет на серое, низкое небо, чтобы рассеяться, дать отдых глазам, а затем снова продолжает наблюдение, накапливает догадки, сопоставляет приметы, делает предположения.
У перекрестка, в конце Церковной улицы, на темном заборе белел лозунг, намалеванный метровыми буквами. Тимоша сообщил Пестрякову, что там написано: «Сибирь или победа!» Этот самый лозунг лейтенант видел сквозь ставни их дома. Не обошлось в ту минуту без смачной ругани в адрес Гитлера, который сперва соблазнял своих головорезов Украиной да Кавказом, а сейчас — язва его возьми! — пугает Сибирью…
Пестряков все вглядывался в задние борта проходивших машин, на них виднелись красные перекрещенные топоры. За последнее время он видел машины с трафаретом, изображающим виноградную кисть, желтого слона или бегущую собаку, а красные топоры — клеймо новой дивизии, видимо, только что переброшенной на этот участок фронта.
Хорошо бы и эту примету, в придачу ко всем другим, собранным ночью, сообщить своим.
Необходимо сегодня весь день вести наблюдение, с тем чтобы вечером вернуться в подвал и той же ночью отправиться через линию фронта.
Ну а если бы эти артиллеристы-ночлежники утром не убрались? Пришлось бы сегодня вечером податься на восток, не заходя в подвал. Оставить Черемных и лейтенанта при одних пистолетах? И это солдатская совесть позволяет, если разведка требует.
Пестряков отдавал себе отчет в том, как быстро в нынешних условиях стареют данные разведки.