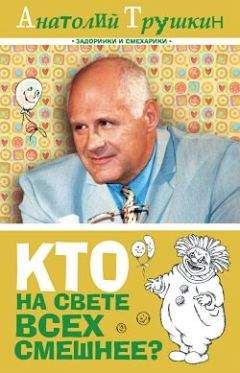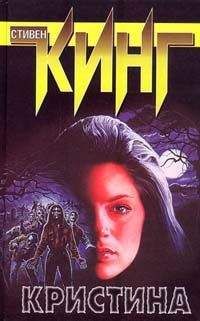Петр Михин - «Артиллеристы, Сталин дал приказ!» Мы умирали, чтобы победить
Низкие рваные облака быстро неслись на восток, поливая дождем и без того набухшую водой землю. Между тем огонь врага прекратился, и я вдруг почувствовал, что весь промок до нитки. Только теперь стал замечать крупные капли воды на упругих травяных стеблях. Может, в другое время эти дивные бриллианты и заворожили бы меня, теперь же они вызывали невольный озноб, постоянно окатывая холодом лицо и шею.
С бугорка, на который я выполз, были хорошо видны немецкие позиции, но, сколько ни всматривался я в лощины и впадины, следов минометной батареи не находил. Снова и снова, до боли в глазах глядел в дождливую мглу… а перед глазами то и дело возникало выхлестанное дождем лицо раненого. Оно не было перекошено испугом или болью и совсем не выражало страдания. Было в нем что-то отрешенное, но спокойное и величественное…
Вдруг вижу, вдали справа ровным рядком выпрыгивают из лощинки едва заметные голубые дымки и тут же исчезают… Да это же батарея стреляет! — внезапно догадался я. Вот где спряталась! Хорошо запомнив место расположения немецких минометов, я быстро пополз назад в лощину, к своему раненому, уже представляя, как положу его на плащ-накидку, как потяну к своим и как он обрадуется, когда придет в себя, отправим его в санбат, а там он подлечится, напишет домой… Но, сколько ни ползал я по-пластунски меж кочек по мокрой траве, как ни вглядывался в лица лежавших навзничь тел — своего солдата не находил, кругом были одни трупы. Когда поднялся на колени, чтобы получше видеть, немцы заметили меня и принялись стрелять. Долго еще я ползал по лощине, но так и не нашел раненого.
Вконец обессиленный и не просто мокрый, а перепачканный с головы до ног грязью, обескураженный неудачей, я некоторое время лежал неподвижно: меня уже не пугали ни пули, ни мины, в горле ком, в сердце щемящая боль, в душе угрызения совести, а перед глазами обреченный взгляд раненого, который в эти минуты был где-то рядом и молча умирал.
Когда добрался до своих и доложил результаты разведки, Чернявский подготовил данные для стрельбы и огнем гаубиц уничтожил немецкую батарею. Пехота и мы вздохнули облегченно: обстрелы прекратились.
А я чувствовал себя привязанным к тому островку почерневшего травостоя. Упросил командира роты, он дал мне санитара, и мы ночью поползли с ним в лощину. Замирая при каждой вспышке осветительных ракет, пережидая пулеметные очереди, мы обследовали множество тел, но ни одного живого или с лицом, закрытым плащ-накидкой, не нашли.
Прошло еще два дня. Немцы пополнили потери, и их минометная батарея заработала с еще большим ожесточением.
— Сынок, — ласково обратился ко мне Чернявский, — придется тебе снова сползать на тот бугорок. Возьми-ка с собой связиста и попробуй сам расправиться с этой батареей.
Страшно было снова ползти туда, но подкупала возможность самому корректировать огонь наших гаубиц. И заодно хотелось еще раз посмотреть, куда же девался мой раненый, не мог же он сам выбраться оттуда.
Поползли со связистом в лощину, за ним разматывался телефонный кабель. Вот и кочки, и высокая трава, и трупы. Только верхушки травостоя заметно укоротились, как будто за эти дни какой-то великан пытался скосить их большой зазубренной косой. Мы спрятали катушку с кабелем в воронку и расползлись в разные стороны искать моего солдата. Начавшийся обстрел вжимал нас в землю, но мы продолжали обследовать мертвые тела. Когда метрах в двадцати от воронки снова сблизились, связист принялся уговаривать:
— Ну чего его искать, товарищ лейтенант? Сколько дней прошло, разве можно выжить в таком аду да холоде? Ну посмотрите, сколько их тут валяется.
— Эх, Проценко, а если бы это был твой отец? Конечно, ты не видел его, он для тебя чужой.
— Может, пехотинцы вынесли, — успокаивал он меня.
И надо же такому случиться, неожиданно я наткнулся на своего солдата. Лицо у него почему-то опять было открыто. Оно сделалось еще более белым и блестящим, а щетина еще больше подросла и почернела.
— Давай ко мне, — приказываю Проценко, — нашел я его, может, еще живой!
Солдат не подавал никаких признаков жизни. Глаза закрыты, лицо каменное.
— Я же говорил, что он мертвый, — убежденно сказал Проценко.
Снова мне стало не по себе, новый приступ жалости сковал сердце: никуда он не делся, и никто его не вынес, так он и погиб под этим дождем. А в душе все же теплилась надежда: а может, и живой?
Стал тормошить его за плечи, трогать за лицо. Забывшись, высоко приподнялся над ним, и тут же хлестанула длинная пулеметная очередь. Проценко рванул мою голову вниз, прижав щекой к мокрому лицу солдата. Стрельба прекратилась, и я уловил слухом едва заметное дыхание. Неужели живой, удивился, скорее всего показалось. Скажу откровенно, в тот миг мне почему-то не хотелось, чтобы он был живой. Ну, умер и умер, что поделаешь. А если он живой… — этому сопротивлялось, отрицая, все мое существо: столько мучиться, четыре дня под таким дождем, обстрелом! Эта несуразная мысль быстро промелькнула и ушла, но то, что она все-таки была, вызвало новый прилив угрызений: все это оттого, что не нашел его тогда, не вынес. Прислушиваюсь снова… и снова чуть слышно дыхание.
— Живой он! Живой! — кричу, и принялся растирать его щеки. Раненый медленно открыл глаза, поводил ими вокруг и уставился на нас.
— Ну потерпи еще немного, теперь-то уж мы наверняка тебя вытащим. Проценко, замахни кабель за его ногу, чтобы не проползти мимо на обратном пути, — приказываю, а сам думаю: вот положение, не уничтожив немецкой батареи, мы ни в коем случае не можем возвращаться к своим, а пока ее уничтожишь, или раненый умрет, или сам…
Потрясенный случившимся, я полз на бугор совершенно механически, только инстинктивно соблюдая осторожность, — мокрое, бледное лицо солдата непрестанно маячило передо мной, а мозг сверлила мысль: почему, почему я тогда не спас его?..
Новую немецкую батарею я обнаружил сравнительно быстро, невдалеке от той, что уничтожили ранее. Передал по телефону установки на открытие огня, сделал небольшой доворот и перешел на поражение. Мы выпустили более пятидесяти снарядов. Черные клубы дыма заволокли балку с немецкими минометами. К небу летели какие-то ящики, тряпки, потом взметнулись клубы огня. Батарея была уничтожена. Но странное дело, я не испытал при этом обычной радости, какая бывает, когда уничтожишь врага.
— Вызовите на НП фельдшера, мы принесем раненого, — передал я по телефону, и мы с Проценко быстро поползли назад, к раненому.
Вот и наш раненый. Когда мы перекатывали его на плащ-накидку, он застонал. Вдвоем мы быстро потянули его к своим.
В окопе уже был фельдшер. С каким волнением ждали мы результатов осмотра! И как гром, как взрыв неимоверной силы поразил нас голос фельдшера:
— Да он же мертвый.
Чувство безысходной жалости, непоправимой беды и вины, чего-то неисполненного и навсегда утерянного!.. Перехватило дыхание, сжало сердце. За свои двадцать лет я только однажды испытал подобное, в детстве, когда, проснувшись ночью, коснулся остывшего тела матери — казалось, только что я окликал ее, она была живая… И вот — проспал!..
У окраины РжеваБолее убогого, неуютного и крайне опасного убежища, чем то, в котором я встречал 25-й Октябрь, и представить себе невозможно. И трудно поверить, как не хотел я его покидать, когда мне приказали сделать это.
В первых числах ноября я находился далеко впереди от нашего переднего края, на нейтральной полосе, в пятидесяти метрах от немецких окопов. От противника меня отделяло железнодорожное полотно и залитый водой мелкий кустарник, из которого, согнувшись в три погибели, чтобы быть не замеченным немцами, я по утрам рассматривал окраины Ржева. На взгорке за кустарником тянулись немецкие окопы, далее — крайние домики Ржева. Во дворах, закрытых постройками от наблюдателей с нашей стороны, хозяйничали немцы — ходили, ездили на повозках, машинах. С места, где я устраивался для наблюдения, хорошо просматривались продольные и поперечные улицы, дворики города. Где-то там, за первыми домиками, стояла немецкая минометная батарея, которая не давала нам житья, постоянно обстреливала все, что появлялось на наших позициях. Ее-то я и должен разведать и уничтожить огнем батареи.
Наступает ночь, льет холодный осенний дождь, мы со связистом Рябовым лежим в мелком окопчике за невысокой насыпью железнодорожного полотна. Сверху, от дождя, окопчик покрыт плащ-палаткой, а чтобы не замочиться в воде, выступающей снизу, мы накидали на дно сушняка. Из-за воды окоп настолько мелкий, что вползти в него можно только скользя на животе по веткам, а внутри даже на локти нельзя опереться, потому что мокрая плащ-палатка поднимется и будет видна немцам из-за насыпи полотна. Немцы и подумать не могли, что у них под носом, между их минным полем и железной дорогой, какой уже день проживают двое русских, они специально день и ночь обстреливали из минометов предполье у железной дороги, чтобы не допустить проникновения наших разведчиков к своим окопам. Мины эти постоянно рвались позади нас, и мы боялись, чтобы какая-нибудь «гулящая» не залетела к нам в объятия; да еще разрывные пули, смертоносной трелью повторяя пулеметные очереди, взрывались от ударов по кустарнику, нависавшему над нашим окопчиком, — казалось, что пулемет стреляет не в полусотне метров, а у нас над головой. Ко всему, эти постоянные обстрелы рвали телефонный кабель, который связывал нас со своими, и Рябову, исправляя его, приходилось ползать по минному полю.