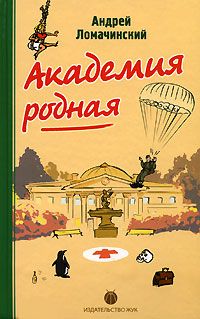Олег Смирнов - Эшелон
Надо было бы думать о другом. О чем? Не знаю. Но — о другом.
Эшелон замедлил ход, остановился в поле. Солдаты собрались было спрыгивать на землю, но он опять отронулся, пошел, набирая скорость. Я продолжал стоять, опершись на кругляк, и глядел на прусский пейзаж. Близкий план мелькал, дальний медленно разворачивался. Мысли исчезли, голова словно пустая. Так и нужно — ни о чем не думать. Башка отдохнет.
Окликнул старшина Колбаковский:
— Товарищ лейтенант, хватит стоять, в ногах правды нету.
Давайте к нам на нары!
Гулко отозвался колесам небольшой железный мост над речкой — молодцы ремонтники, восстановили. Речка была зеленая, в камышах и текла к лесу, над которым вставала радуга. Паровозный дым разрывался, лохматился, стлался вдоль эшелона, завоняло гарью. Я прикрыл дверь, оставив щель, и подошел к нарам.
Они были двухъярусные, справа и слева, посреди теплушки — топорной работы стол, противоположная дверь наглухо закрыта — там устроена пирамида для оружия. Вагон старый, зашарпанный, пол выщерблен, нары пообтертые, стояки лоснятся — теплушка послужила на своем веку, сколько перевезено нашего брата?
Нары укрыты плащ-палатками и трофейными одеялами, под ними разбросанное сено. Старшина Колбаковский организовал, то есть спер, тюк прессованного сена в хозвзводе. Ловкач. Я пощупал и обнаружил: там, где мне обитать, на втором этаже, возле окошка, сена сверхизобильно, в других местах скудно. Я раскидал сено, восстановил справедливость. Колбаковский с досадой ска-, зал:
— Товарищ лейтенант, вы же командир роты, и вам положено…
— Ничего, старшина, — сказал я, — ничего. Так будет правильней.
Колбаковский крякнул, отвернулся. Дуешься? Подуйся. Ловчи, да знай меру.
Я снял сапоги и залез на свое место, лег, закинув руки под голову. Справа вагонная стенка с оконцем, свет падал наискось, в нем толклись пылинки. Слева резиденция старшины, еще левее лежит сержант Симоненко, парторг. Начальственный закуток. Да, а все-таки восстановление попранной справедливости было демонстративным, мелким и отчасти неумным. Как-то надо было иначе проделать мне это, с сеном.
А пахло оно, сенцо, тонко и грустно, как скирда на лугу. Мне виделась эта скирда, за ней кобылица с жеребенком, оба тонконогие, в чулках, на лбу звездочка. Не представляю, видел ли когда-нибудь в прошлом скирду, кобылицу и жеребенка или вообразил их сейчас, но они были как взаправдашние. Дать бы им сенца, на котором валяюсь.
Старшина выразительно покашливал, отвернувшись. Сержант Симоненко почивал, подтянув колени к подбородку. Командиры отделений резались в подкидного дурака. На нижних нарах высвистывали: "По кирпичикам и по камушкам растащили мы этот завод", ссорились вполголоса и пробовали лады аккордеона; немецкий аккордеон — собственность старшины Колбаковского, поскольку же он играть не умеет, то музыкальным инструментом временно пользуется ефрейтор Свиридов; старшина строжайше предупреждал: "Осторожней, не сломай!" — Свиридов небрежно ответствовал: "Что я, первый год замужем? Этих аккордеонов перебывало в моих руках несчетное количество!" Но судя по тому, как неуверенно и неумело обращается ефрейтор с инкрустированным сокровищем, как фальшивит, напрашивается вывод: вряд ли вообще бывал замужем. Репертуар у Свиридова своеобразный: сплошь танго — сладчайшая музыка, любовь, встречи, разлуки, душераздирающие страдания.
Снова прогромыхал встречный, снова на минуту остановились и тронулись. Вагон качался, на нарах жестоко трясло, колесный стук отдавался в висках. Так-так-так — перестукивались колеса, и это напоминало короткие автоматные очереди. Я закрыл глаза.
Темно. Так-так-так — и все звуки в теплушке (кашель, говор, аккордеонные переливы) померкли, словно отодвинулись за стены.
Темно, потому что ночь. Идет ночной бой, беспрерывно стучат автоматы. Давно я не попадал в такие переплеты: метет метель, ни зги не видать, справа немцы и слева, связи с батальоном нет, в тылу, похоже, также чешут «шмайссеры». Деремся чуть ли не в окружении — где и когда? Под Кенигсбергом, в январе сорок пятого! Увы, так оно и есть: в ночь на 27 января немцы рассекли батальонные порядки, обошли нашу роту, и вот уже третий час мы ведем тяжелый бой. Что будет дальше, откуда подойдут свои?
Или нам надо отступать? Куда? Никто ничего не знает, и интеллигентный капитан ругается в бога и мать, и рота бьется насмерть на опушке заваленного снегом леса. Потом выяснится: пробившийся из окружения гитлеровский полк ударил по дивизионным и полковым тылам, разгромил медсанбат и санроту, после ударил по батальонным тылам и нам, стрелковым ротам, в спину.
А пока слепит метель, рыхлый снег садится на разгоряченные лица, трещат автоматы, рвутся гранаты, стонут раненые…
К утру комдив подбросил резервы, вражеский полк был зажат в кольцо. И утром же на поляне, под елью, были найдены наш комбат Первушин и телефонистка Николаева. Я, видавший виды, и то содрогнулся: лица исколоты тесаками, в кровоподтеках, глаза выколоты, носы отрезаны, на лбу у Первушина вырезана пятиконечная звезда, между оголенных ног Николаевой загнан осиновый кол, оба трупа полусожжены. Попавшие в плен гитлеровцы на допросе показали: капитана Первушина и Веру Николаеву захватили ранеными, пытали, а затем пристрелили, облив бензином, подожгли. Я не отходил от страшного костра, как пригвожденный. Комбат и телефонистка любили друг друга, их и смерть не разлучила. Это он, капитан Первушин, укорял меня за богатое воображение, но у меня не хватило бы воображения представить, как мученически закончится его жизнь. А нынешний наш комбат был тогда адъютантом старшим батальона, он стоял рядом со мной, закусив губу так, что из нее вытекла капля крови.
Это зверство было чудовищно и противоестественно для нормального человека. Что за выродком надо быть, чтобы сотворить такое с людьми? Каким садистом надо стать, чтобы так изуверски надругаться над беззащитной женщиной? Над могилой капитана Первушина и Веры Николаевой — их похоронили вместе — мы поклялись отомстить фашистам в бою. По-иному мстить не умели.
И не желали.
Алексей Первушин и Вера Николаева зарыты в немецкую землю. Как и многие мои товарищи по оружию. Каково им будет лежаться в немецкой земле, когда мы уедем отсюда? Будто наяву вижу Алексея и Веру: он плечистый, синеглазый, русоволосый кудряш, она тоненькая, хрупкая, с мальчишеской стрижкой ц тоже с синими глазами, он был неулыбчив, она хохотушка. Их породнила война. И схоронила их война.
— Товарищ лейтеиапт? — Интонация отчего-то вопросительная.
Я разлепил веки, и солнечный луч резанул по зрачкам. Я прикрылся рукой.
— Товарищ лейтенант? Скоро большая станция, обедать будем. Перед обедом положено пропустить сто грамм. У меня фляжка… Разрешите, налью?
Старшина Колбаковский. Старается говорить шепотом, но тенорку тесно, он рвет шепот в клочья. Та-ак. Следовательно, старшина перестал дуться, отмяк? Быстренько. Незлопамятный он, добрый? Или прикидывается таковым? А выпить в самый раз, выпьешь — и от воспоминаний станет не так муторно.
— Налейте, старшина. Закусить есть?
— Конфетка.
— Давайте. Благодарю.
Колбаковский сперва подает мне фруктовую подушечку, а после, покосившись по сторонам, незаметно плескает в пластмассовый стаканчик из фляги. Я уже не думаю о справедливости — надо бы фляжку разлить на всех, — ибо это лишено смысла: поллитра на сорок человек. Опрокидываю терпкую жидкость в пасть, проглатываю. Внутри все обжигает. Отдышавшись, заедаю конфетой.
Старшина выпивает свою порцию, на звук определяет, сколько еще вина во фляге, прячет ее в вещмешок. Да, это какое-то вино из трофейных, крепкое, дерет. Ну, да нам не привыкать. На фронте нельзя было не пить. Легче все переносилось. Но если сначала я пил, чтобы подольше туманило разум, то затем стал пить, желая поскорей сбросить хмель, по принципу: быстрей выпьешь — быстрей протрезвеешь. Это называется переводить добро, однако мне действительно, когда пью, хочется поскорей приобрести ясность разума. Причина — остерегался наколбасить. А было, колбасил, стрелял из пистолета бог знает куда, схватил за грудкп батальонного фельдшера — чуть до рукоприкладства не дошло.
Первушину в пьяном кураже ляпнул: "У нас нету незаменимых, я не то что ротой — батальоном смогу командовать!" Капитан тогда сказал: "Глушков, мы с вами в неравных условиях: вы выпили, я же трезвый". — "Так давайте уравняемся! Угощу, спиртик есть!" — хохотнул я. "Завтра уравняемся, когда проспитесь. Завтра и побеседуем".
Ох и пропесочил он меня, проспавшегося, до сих пор стыдно!
Я краснел, бледнел, меня кидало в жар и в холод. А капитан в заключение сказал: "Вы не умеете пить, не умеете лицемерить.
Что я имею в виду? Опытный выпивоха хлебнет как следует, но держится, будто трезв, стеклышко! То есть мастерски лицемерит.