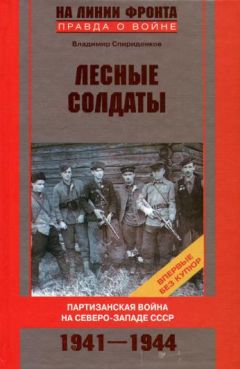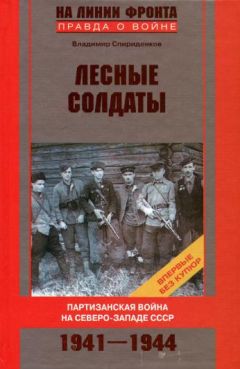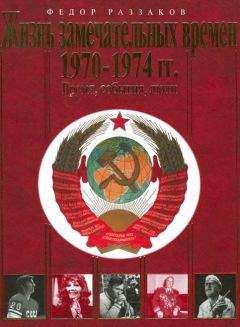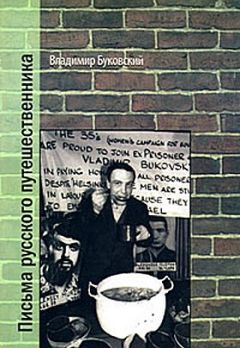Владимир Рыбин - Непобежденные
В январе нас продали другому предпринимателю на гравийно-щебеночный завод, принадлежавший фрау Рот, вдове убитого на восточном фронте немецкого офицера. Меня поставили наверху на приеме вагонеток из карьера. Вскоре я сообразил, как можно устроить аварию. На другой же день четыре вагонетки рухнули с эстакады вместе с цепью, соскочившей с тягового колеса. Предохранители сгорели, завод встал. Прибежал часовой, молодой и вредный, врезал мне прикладом пару раз между лопаток.
Ребята через часового обратились к фрау Рот с просьбой дать нам приварок на обед, так как вагонетки тяжелые, а сил у нас нет. Как она заверещала, как раскричалась. По лицу пошли красные пятна.
Мы начали тянуть, как могли. Часовой пустил в ход приклад. Но в пыли под бункерами среди камнедробилок не набегаешься, и он, поминая черта, перестал бегать за нами. А через несколько дней вдова Рот от нас отказалась.
Тогда мы попали к другому подрядчику, толстому немцу со свастикой на рукаве. Он заставил нас рыть глубокую траншею под канализацию. Работали мы — медленнее не придумаешь, и на этой почве вскоре возник конфликт. Прибежал часовой, пощелкал затвором, но ничего не добился и бросился звонить коменданту. Нас вернули в лагерь, избили изрядно и два дня держали на одной воде. Часовые говорили, что расстреляют.
На третий день всех нас, восемь человек, перевели в другой лагерь. Стали работать на другом заводе, где делали графитовые болванки для электропечей. Меня поставили к фрезерному станку в пару к уже работавшему на нем старожилу этого лагеря. Мастер цеха поставил ко мне немца для обучения, чтобы вдолбить «непонятливому» процесс обработки. Ему потребовалось два дня, хотя понял я всё в пять минут. Но дальше тянуть уже было нельзя. Мы стали укорачивать болванки, переводя их в графитовую пыль. А чтобы оправдать свои действия, стали потихоньку сбивать настройку и жаловаться мастеру, что станок разрегулировался. Станок налаживали, но на другой день мы всё повторяли. Подсчитали, что таким образом уничтожали до десяти болванок в день, а это восемь-десять процентов от сделанной работы.
Как-то я сказал мастеру, что немцы эту войну проиграют. Он замотал головой, заявив, что они проиграли первую мировую войну, а эту ни за что не проиграют. Так и сказал:
— Цвай маль нихт ферлорен.
Вечером всех нас часто сгоняли в столовую. Приходил комендант лагеря с парой часовых и власовцем. На власовце был немецкий мундир, на рукаве лоскут с буквами «РОА». Власовец говорил, что задача русской освободительной армии — освобождение России от коммунизма и построение русского социализма, агитировал вступать в РОА. Ответом всегда было молчание. Никто не хотел лезть в эту петлю.
Меня перевели к мастеру Коопу, занимавшемуся монтажем электропроводки. Мы с Матюхиным попали на рихтовку алюминиевых шин. Разговорились, и я узнал, что в Севастополе он был старшим лейтенантом и служил на эсминце «Совершенный». В первые дни войны корабль подорвался на мине, а затем, уже на морзаводе, попал под бомбежку и затонул. Орудия эсминца были сняты, установлены на Малаховом кургане, и он, Матюхин, командовал этой батареей.
…После войны, уже в 1971 году, я побывал на Малаховом кургане, увидел там две морские стационарные пушки и на них металлическую плиту с надписью: «Батарея старшего лейтенанта Алексея Павловича Матюхина». Спросил о нем у экскурсовода, и мне сказали, что этот геройски сражавшийся командир батареи погиб. В музее я отыскал групповой снимок моряков эсминца «Совершенный» и сразу узнал своего солагерника. Сказал об этом работникам музея, но, похоже, никого не убедил. Потому что во многих мемуарных книгах уже писалось, что он погиб в Севастополе.
А тогда, работая на немецком заводе, мы много думали о том, как навредить гитлеровцам. Однажды на железнодорожную платформу прибыл большой трансформатор метра три-четыре высотой. Его надо было выгрузить и поставить в печной цех вместо вышедшего из строя. В помощь немцам-работягам подключили десяток военнопленных. Немцы очень торопились, так как печной цех простаивал. А мы тянули волынку, подносили немцам не то, что они требовали, перетаскивали шпалы и бревна не туда, куда указывалось, страшно суетились, натыкаясь друг на друга, мешая немцам работать.
На другой день немцы позвали часовых, те, видя, что мы не выкладываемся, стали орать на нас и пускать в ход приклады. Вот часовой набросился на Матюхина, поднял винтовку для удара. А Матюхин встал перед ним, бросил на землю лом, который держал в руках, и заявил:
— Если будете бить, работать не будем.
Часовой стал стрелять в воздух. Прибежал унтер с тремя солдатами. Они схватили Матюхина, меня и Мишина, работавшего вместе с нами, поставили к стене и подняли винтовки. Прогремели выстрелы, сверху посыпалась кирпичная крошка. Пугали, значит. А могли и всерьез расстрелять. Это они умели.
Мишина и Матюхина часовые куда-то увели, а мне унтер связал руки и повел к себе в помещение охранной команды. Там разъяснил, что сажает меня под арест на пять суток за саботаж и за то, что обозвал немецкого солдата свиньей. И для убедительности исхлестал меня ремнем, рассек до крови лицо и руки.
Затолкали меня в камеру размером два на три метра с маленьким окном под потолком, в которое едва можно было просунуть два кулака. В камере был собачий холод, и я подумал, что тут мне и конец. Но выжил, через пять дней на своих ногах дошел до лагеря. С трудом, но дошел.
А потом часовой отвел меня к фабричной конторе. Там за столом сидел власовец, вежливый такой. Спросил:
— Артиллерист?
— Да.
— Какое училище кончали?
— Второе киевское.
— А-а, второе КАУ. Знаю, знаю. Ваш начальник училища — генарал-майор Гундорин. А в каком были дивизионе?
— В первом.
— Значит, у майора Батикяна?
Я удивился: откуда он это знает?
— Борис Александрович, вы, конечно, догадались, что я вас пригласил для серьезного разговора, надеясь на ваше вступление в ряды русской освободительной армии. Вы согласны?
— Нет.
— Я понимаю, что это не просто и не легко. Ведь мы всю жизнь воспитывались однобоко, прокоммунистически, через пионерию и комсомол. Но мы вам уже разъясняли о задачах РОА и программе послевоенного устройства русского общества…
— Немцы-то драпают, — напомнил я ему.
— Ах, это временное явление. Скоро у них появится новое мощное оружие, и немцы все себе вернут. Подумайте. Уверен, что если хорошенько подумаете, то придете к нам.
Выходя из конторы, я увидел: часовой ведет другого человека. Так индивидуально проходила вербовка в РОА. Но никто в нашем лагере на это не клюнул.
Иногда каким-то образом к нам попадали обрывки немецких газет. Мы пытались читать их с помощью словаря и гадали, когда же наши окончательно разобьют немцев. Мы жили этой надеждой. Родина могла обойтись без нас, но мы не могли обойтись без Родины.
Мы едва таскали ноги от голода. Упросили унтера разрешить нам покопаться в земле возле лагеря, где зимой лежала в буртах картошка. Весной ее увезли, но ведь что-то могло и остаться. Унтер разрешил. — К концу войны немцы, даже охранники, становились снисходительнее. — Набрали кучу гнили, сварили в лагерном котле. Запах был отвратительный. Но мы съели всё, что старили. К счастью, никто не отравился.
Однажды в лагерь приехал немецкий майор. Нас, доходяг, построили, и он начал рассказывать о порядке передачи военнопленных «противнику», как он выразился. Я насторожился: с чего бы вдруг такое к нам отношение?
Много лет спустя, узнал: немцы были официально предупреждены, что в случае уничтожения военнопленных, будут уничтожены немецкие военнопленные. Вот, значит, что заставило их позаботиться о наших жизнях. Страх. Иного языка они не понимали.
В конце апреля 1945 года на «виллисах» приехали американцы, распахнули ворота. Мы высыпали из лагеря, разбрелись. Кто-то приволок радиоприемник, и мы уже были в курсе происходящего.
Бывшие среди нас старшие командиры созвали собрание, и на нем было решено вести себя достойно, жителей не обижать, не разбойничать. Отправили делегацию к бургомистру Майтингена с ультиматумом: если в лагерь не будет доставляться питание, спокойствие жителей не гарантируется.
Немцы тут же привезли продукты. Мы, изголодавшиеся дистрофики, бродили вокруг кухни, ждали обеда. Никто не предупредил нас об осторожности с едой, и скоро мы заболели животами. Однако постепенно все нормализовалось.
Немцы сшили несколько тысяч хороших мужских рубашек, и мы немножко приоделись. Созданный из наших же военнопленных штаб лагеря выдал всем бывшим командирам бумаги, удостоверяющие личность, и даже оружие. Мне достался парабеллум.
А затем в лагерь приехали наши офицеры — полковник, капитан и старший лейтенант. Полковник поздравил нас с победой и сообщил о порядке передачи всех из американской зоны в советскую. Много было вопросов. Ходили слухи, что бывших военнопленных в Советском Союзе сразу отправляют на Колыму. Капитан оказался особистом, и когда его напрямую спросили об этом, он замялся и ничего определенного не ответил. Сказал только, что разговор с каждым будет после того, как вернемся на родину.