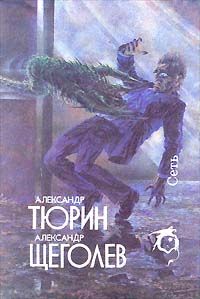Александр Андреев - Ясные дали
Повара готовили пищу, и над острыми пиками елей пышными сиреневыми букетами цвели дымки. Лейтенант Стоюнин сбежал с крылечка, бледность щек выдавала его тревогу; он заложил большие пальцы за ремни снаряжения, кинул косой взгляд на «раму» и позвал Оню Свидлера:
— Старшина, немедленно загасите костры! Не видите, кто над нами?
— Не надо, — остановил я Оню, метнувшегося выполнять приказание. — «Рама» уйдет, тогда здесь костры погасите, а километра за полтора — два от расположения первого батальона их разложите.
— Правильно, — одобрил Чертыханов. Лейтенант Стоюнин, посмотрев мне в глаза, понял мою мысль.
— В батальон поеду я сам, — сказал он и кивнул Чертыханову. Прокофий вывел со двора лошадь Они Свидлера, и Стоюнин, вспрыгнув на нее, поморщился — без седла; затем порысил через поляну.
Войдя в дом, я доложил полковнику Казаринову о своем замысле.
— Посмотрим, — ответил полковник, давая мысленно оценку моему решению. — Скоро прилетят штурмовики. — Он сидел на кровати у окошка; проводив взглядом «раму», посмотрел на часы. — Минут через сорок. — И повторил: — Посмотрим…
Я вышел на крылечко. Разведчик, посеяв в лесу напряженное чувство тревоги и ожидания, въедливо зудя, медленно уплыл, скрылся. Костры на поляне были погашены. Успеют ли зажечь их на новом месте?.. Подбежал Вася Ежик; он никогда не уводил свое стадо далеко от избы.
— Налет будет, товарищ лейтенант?
— По всей вероятности да, Вася.
— Что мне делать с козами? Загнать во двор? Навязались они на мою шею, окаянные! Скорее бы их съели!
— Скоро съедим, — ответил я, думая о своем, — потерпи немного…
Вмешался Чертыханов:
— Не лезь, Василий, к командиру со своими козьими проблемами. Загони скотину в лес, чтобы на поляне ни одной животной не бродило…
В эту минуту тишины и томительного ожидания бомбежки я думал о Нине. Я горько пожалел, что ее нет рядом со мной: она сняла бы с меня тяжкую ношу беспокойства и опасений за нее. Что она сейчас делает? Убережет ли ее Никита? Убережет ли она сама себя? Я все время ощущал на себе ее строгий и горячий взгляд — она следила за каждым моим шагом, прислушивалась к каждому моему слову. И мне все время хотелось, чтобы она видела меня решительным, стойким и умным.
Я ждал самолеты с запада, а они всплыли с северо-востока, видимо, от Смоленска. Лес как бы притих, оцепенел, скованный грозным ревом моторов. «Опоздали, не успели запалить костров», — с чувством тоски и злости отметил я и украдкой взглянул на окно избушки. Сквозь запыленное стекло желтело лицо полковника Казаринова. Теперь самолеты, не обнаружив дымов, начнут швырять бомбы по всему лесу…
Машины выстроились в «карусель» далеко от нашего штаба, и до нас долетело пронзительное завывание самолета, упавшего в пике. Взрывы сотрясали деревья от корней до самых вершин. Жалобно блеяли козы Васи Ежика. Стоюнин, огибая поляну, мчался на взмыленной лошади. Осадил ее на полном скаку.
— Костры горят, товарищ лейтенант! — крикнул он и прошел в штаб, морщась, некрасиво ковыляя: гнал без седла. Я был счастлив, я вырос в собственных глазах: хитрость моя удалась, жизни многих людей спасены. Чертыханов проникся ко мне еще большим уважением. Он отметил, жмуря при каждом взрыве маленькие свои глазки:
— Крошат, как по нотам, а место пустое.
В это время прямо над коньком избушки, почти касаясь острых еловых вершин, прошло звено наших истребителей. Они с разлету врезались в круг немецких машин, разорвали его. Суетливо крутясь, они обстреливали тяжелые вражеские бомбардировщики.
Сверху упали внезапно появившиеся немецкие «мессершмитты». Я никогда не видел воздушного боя, подобного этому. В небе над лесом стало как будто темно и тесно от смешавшихся машин. То там, то тут блеснет вдруг алое крыло нашего истребителя и опять померкнет, заслоненное чернотой вражеских крыльев. Исступленно, до невозможного напряжения визжа, они гонялись друг за другом, резали друг друга огненными струями… Дважды вспыхнуло клубком пламя, и косо падающие бомбардировщики перечеркнули облачное небо черными, как деготь, полосами. Потом, безвольно колыхаясь, потянул к земле «мессершмитт». Прямо над поляной, над нашей головой немецкий истребитель настиг нашего истребителя, пустившего вниз вражескую машину. Я видел, как беспощадная режущая струя прошила самолет. Он загорелся мгновенно, какую-то долю секунды висел на месте и, пылая, стал падать на землю. У мен в я перехватило дыхание. «Погиб…» — с отчаянием подумал я про летчика, не силах оторвать взгляда от этого самолета. Но вот от него отвалилась черная точка. Над ней вздулся белый парашют, и точка как бы замерла в воздухе; летчик снижался медленно, воздушные струи относили его влево. «Спасен!» Едва я успел подумать об этом, как вражеский истребитель, проносясь мимо снижающегося летчика, хлестнул его очередью. Летчика резко встряхнуло, и я с болью понял, что он перерезан свинцом.
Парашют зацепился за ель неподалеку от нашей поляны. Чертыханов нашел его первым. Летчик висел на стропах, немного не доставая ногами земли. Он был мертв. Скольких еще, молодых, смело расправивших крылья, влюбленных в жизнь, кинет война в холодные, вечные объятия земли, сколько погасит еще светильников, сколько скосит цветов!
В кармане гимнастерки летчика я нашел карточку жены. Она лукаво и ослепляюще смеялась, сузив свои большие глаза. Я представил молодую красивую русскую женщину, ее любовь, безжалостно перечеркнутую смертельной вражеской очередью, и некая великая и простая мудрость коснулась души: люди рождаются для жизни, для радости любви, и враги жизни, одевающие землю черным покрывалом смерти, должны быть истреблены. Великое благо совершалось нами, советскими воинами, вышедшими на поединок с фашизмом…
7До самого вечера я объезжал на лошади подразделения. Ни один человек не пострадал от налета вражеской авиации. Только убило лошадь в обозе Они Свидлера, перевернуло повозку с водой и взрывной волной смыло палатку; сорванный с кольев брезент взлетел и повис на распластанных еловых ветвях.
Но люди выглядели озабоченными и строгими, предстоящие опасности как бы наложили на каждого свою неизгладимую печать. После короткого боя и захвата вражеских грузовиков, после бомбежки всем стало ясно, что мирная жизнь в благоухающем лесу, на зеленых полянах кончилась.
В третьем батальоне ночью ушло из расположения стрелковое отделение вместе с командиром.
Два красноармейца из второго батальона улизнули в хуторок. Две молодые женщины спрятали их, переодетых, в клетях и подполах для ночных радостей. Бойцов привели в роту под конвоем. Капитан Волтузин, обрадованный моим приездом, оживленно сообщая об этом факте, заключил примирительно:
— Простил я им, лейтенант, винюсь; что значат жалкие упреки и наказания перед могучими законами жизни! Я их пристыдил. Иногда пристыдить человека — это куда сильнее, чем наставить на него дуло пистолета. Я уверен, что эти солдаты в бою покажут себя еще более отважными.
Я взглянул в радостно-возбужденное лицо капитана и усмехнулся.
— Либерал на войне — очень любопытно! Как же это вы, капитан, осмелились напасть на вражеские машины? Без приказа?
Волтузин раскатисто засмеялся, чуть запрокинув крупную голову, подхватил меня под руку: понял мой шутливый намек.
— Мой лейтенант, не сердитесь: инстинкт самосохранения. Это врожденное. Когда на вас летит на своей колеснице сама госпожа Смерть, вы обязательно отмахнетесь. Мы отмахнулись. Только и всего… Но знаете, что я твердо усвоил? Если бы за четырьмя машинами двигалось еще десять, двадцать, сто, — мои солдаты разгромили бы и их! Скопившаяся ненависть сосет под ложечкой, просится наружу!
Мы подошли к автомашинам. Они стояли на дороге метрах в двадцати друг от друга: у одной были сильно покорежены крылья и капот, в смотровом стекле три дырочки с расходящимися от них лучами; у другой в щепки разбит кузов, видимо, угодила граната. Третья, свернув влево, тупо уткнулась лбом в ствол сосны… Я вспрыгнул в кабину, надавил на педаль стартера, мотор завелся, — я вырулил машину на дорогу.
Прокофий Чертыханов, державший лошадей в поводу, изумленно воскликнул:
— Товарищ лейтенант, на черта же нужны нам эти бесседельные клячи! Бросим их. Дадим газу и дунем как по нотам — сто верст в час. До Москвы на таком моторе рукой подать…
Я выпрыгнул из кабины.
— Хорошая машина, — сказал я Волтузину, вспомнив о своей дребезжащей почтовой полуторке. — Узнайте, нет ли среди ваших бойцов шофера. Машина может нам пригодиться на первых порах…
— Найдутся, — заверил Волтузин, опять беря меня под руку; он не признавал затруднений и сомнений.
Мы прошлись вдоль дороги. Сбоку выстроились в ровный ряд высокие сосны, словно медные, туго натянутые струны; казалось, тронь их — и по лесу разольется низкий мелодичный звон.