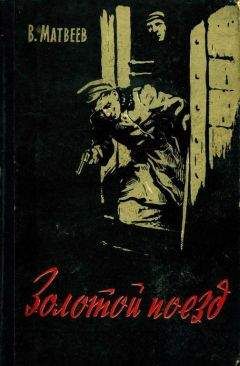Векослав Калеб - Прелесть пыли
Голому удалось наконец сделать несколько глубоких вздохов.
— Гады! — сказал он.
Еще некоторое время они молча старались отдышаться. Мальчик сидел на земле, а Голый стоял, опершись на пулемет, с лица его не сходило удивление.
— Гады! — повторил он немного погодя.
Мальчик медленно поднялся.
— Можно было ударить по нему, — сказал он. — Особенно из пулемета.
— Верно. Да кто же знал!
— Поди вспомни обо всем в такой горячке.
— Да куда уж там, — подавленно сказал Голый.
— Из винтовки тоже можно было.
— Гады! — выдохнул Голый.
— В другой раз будем умнее, — сказал мальчик. — Мне еще не приходилось стрелять по самолету. В другой раз он так легко не уйдет.
— Как же я забыл про пулемет? — сказал Голый.
Мальчику захотелось его утешить.
— Да я лучше сто раз пойду на блиндаж, чем один раз с этой сволочью биться.
— Налетел как ястреб.
— Не такая уж легкая задача, скажу тебе, сохранить людские силы под таким огнем. Сомневаюсь, что нам удалось бы его подстрелить. Этому надо специально учиться.
На душе у Голого было тяжело. И становилось все тяжелее. Его не покидало чувство недоумения. Нападение самолета застало его врасплох. У партизан никогда не было такого количества патронов, чтобы забавляться с самолетами. Такой поединок требовал не одного ящика патронов. Да и самолетам редко удавалось нанести партизанским частям серьезный ущерб, хотя время от времени они и выхватывали из их рядов лучших товарищей.
— Ты выбрал чистое поле, и это действительно было мудро, иначе бы нам несдобровать. Значит, когда-нибудь мы все-таки доберемся до картошки.
Голый поднял руку.
— Солнце! Почему ты позволяешь себя оскорблять? Земля, поле — все не мое, все чужое! А пшеница зовет домой! Все будет хорошо. Все кончится хорошо. Путь наш подходит к концу. Роса счастья уже сверкает на ветвях.
И, к великому удивлению мальчика, он утер с глаз горькие слезы.
* * *Они забрели в настоящую пустыню.
— Солнце уже высоко, — объявил Голый.
— Время забот не знает!
Под ногами была твердая, каменистая поверхность; тонкий слой скудной почвы с трудом питал хилую траву. Овцы не попадались, хотя опустошение в значительной мере было делом их зубов. Ведь война только траву и щадит.
Местами они натыкались на завалы камней. Будто из земли вдруг забил фонтан камней всевозможных размеров и форм. Местами надгробными памятниками торчали огромные плиты, которые надо было обходить.
Все вокруг дышало заброшенностью, запустением, словно тут был какой-то иной мир. Казалось, за этой мертвой котловиной их встретит удача. Души их расцвели надеждой.
— Смерть, как назойливый шмель, жужжит над ухом, — вдруг тихо произнес Голый, как бы отвечая на свою мысль.
Почти все время шли молча, глядя под ноги и выбирая путь полегче. Неровности и даже небольшие камни обходили. Силы снова постепенно таяли. Но они шли все вперед и вперед. Шли, чтоб занять свое место в общем строю.
Долго, очень долго они молчали, и не потому, что им не о чем было говорить.
Горизонт, край котловины, приближался быстрее, чем они ожидали, и, перебравшись через хребет, расцвеченный деревьями, они увидели небольшое село.
— Видишь, — сказал Голый. — Я был уверен, что мы встретим мирное село.
Они были убеждены, что село уготовано здесь для них, и без малейших колебаний направились прямо к нему. Возле тропы, по которой они шли, крестьянин рубил граб. Он издали окинул их беглым взглядом и продолжал работать. А когда они поравнялись с ним, он, так и не обернувшись, еще яростней замахал топором. На приветствие крестьянин не ответил.
И все же они продолжали путь и скоро вышли к покосившимся воротам, за которыми виднелось четыре дома. Один дом стоял выше других, фасадом к дороге. Три другие сгрудились в сторонке и не так бросались в глаза. К колоде у первого дома была привязана корова. Трое ребятишек сидели на корточках под окном и играли. В огородике у другого дома человек средних лет втыкал в грядку колышки. На пришельцев никто не обратил внимания. Словно никто их не видел. Даже дети не проявили любопытства, продолжая играть как ни в чем не бывало.
Партизаны подошли к дубам, росшим у дома. За ними находился небольшой сарай, в тени которого они и решили сделать привал.
— Может, хоть воды попросим, — сказал мальчик.
— Воды попросить можно, — сказал Голый.
Тут в дверях сарая показался бледный, истощенный человек. Он еле держался на ногах. На нем была измятая рваная военная форма. Мундир — немецкий, кавалерийские штаны — итальянские, ноги босые.
Увидев партизан, человек остолбенел. От радости разинул рот.
Он приблизился к ним, шатаясь, неуверенно ступая на слабых ногах.
— Пришли… А мы…
Партизаны сейчас же признали в нем тифозного.
— Ты один здесь? — спросил Голый.
— Н-нет. Семеро нас, там, в сарае.
Голый, все еще держа пулемет с лентами в левой руке, смерил глазами расстояние до сарая, словно определяя, сколько оно потребует сил.
Мальчик сел под дубок, привалился к корявому стволу и закрыл глаза.
— В сарае? — переспросил Голый.
— Да.
— В сарае.
Наконец он решился и почти бодро зашагал к сараю.
В тесном, темном помещении, на тонкой соломенной подстилке лежали шестеро партизан, тесно прижавшись друг к другу. Один оперся спиной о стену и глядел вперед неподвижным взглядом, его большие глаза глубоко запали.
Голый застыл на пороге. «Да живы ли они?» — усомнился он. Но взгляды людей уже были обращены к нему. Он вошел внутрь и чуть не наступил на теленка, неподвижно лежавшего на полу возле людей. Похоже, что он спал.
Скоро глаза привыкли к темноте.
— Как дела, товарищи? — спросил Голый.
— Как видишь! — ответил глухим голосом тот, что полулежал, привалившись к стенке, и закашлялся. Остальные опустили глаза.
— Давно вы здесь?
— Дней десять.
— Кто вас кормит?
— Никто. Раз в три-четыре дня принесет какая-нибудь хозяйка, что от домашних останется. У них самих есть нечего. А что ни день через село идут больные да голодные.
— Вижу, вы выздоравливаете?
— Да.
Тот, что сидел, закрыл глаза.
Первый тифозный вошел в сарай и, опершись дрожащей рукой о ясли, тихо сказал:
— В селе четники. Они хотели нас поубивать, да народ не допустил. Люди и глядеть-то на нас боятся, а харчей на всех, кто просит, не напасешься.
Трое ребятишек, игравших перед домом, шмыгнули в сарай и впились глазами в голоногого пришельца.
— Чего же это вы больных не кормите? — спросил он их.
— Нечем, — ответили ребята, потупившись.
— Идти дальше не можем, ослабели от болезни и от голода, — сказал первый тифозный. — Нам бы хоть на ноги встать.
— Надо бы в селе собрать для них еды, — обратился Голый к детям.
Ребята юркнули из сарая и по стеночке, по стеночке скрылись из виду. Подошел мальчик.
— Нужно накормить товарищей, — сказал Голый.
— Нужно, — сказал мальчик.
— Нужно, значит, нужно, — сказал Голый. — Заколем телку.
— Не надо, — сказал первый тифозный.
Но Голый достал нож, собираясь немедля приняться за дело.
— Не надо, — повторил больной. Он опустился на солому и закрыл глаза.
Тифозный, что сидел опершись о стенку, по-прежнему глядел прямо перед собой.
— Люди умирают от голода, — сказал Голый и не спеша направился к телке.
— Не надо, — слабо запротестовал еще один тифозный.
Голый посмотрел на мальчика. Но и мальчик был словно в тумане, скорее грезил, чем думал.
Голый погладил теленка по голове. Гладкий, упитанный, он не выказывал никаких признаков беспокойства.
Партизан вытащил нож, пощупал острие, еще раз оглянулся и резким движением всадил нож в шею теленка. Теленок повалился на передние ноги, потом на бок, захрипел.
Мальчик схватил алюминиевый таз, стоявший около больных, и поставил его под струю крови.
Некоторое время оба партизана были поглощены делом. Сдирали кожу, вытаскивали потроха, резали тушу на куски. Затем все прикрыли соломой.
Голый работал ловко и быстро. Только пряча нож в карман, он заметил, что в оконце сарая торчит встрепанная мальчишеская голова.
— Малый! Иди-ка сюда, — позвал Голый.
Голова исчезла, но обладатель ее в сарае не появился. Голый немедленно взялся разводить в углу огонь. Солома и хворост были под рукой, здесь же в сарае.
— Сейчас сварим кровь, а мясо изжарим.
Теперь тифозные обратили внимание на его работу.
В глазах сидевшего у стены зажегся голодный огонек; в нем пробудилась воля к жизни. И еще двое приподнялись на локтях. Остальные вытянули шеи, чтобы лучше видеть волнующую операцию. Они уже давно отвыкли от предобеденных ощущений. А сейчас полуденная летняя тишь таила в себе нечто определенное, благоухающее и осязаемое.