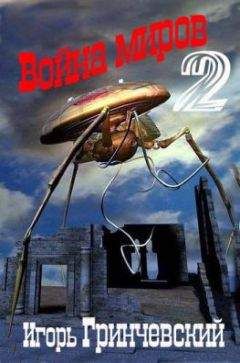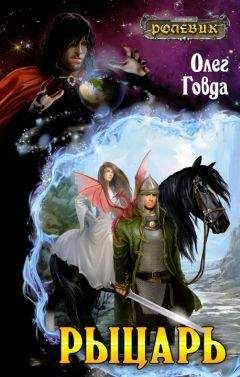Олег Смирнов - Неизбежность
На машинах онп проехали в центр столицы, ко двору, обсаженному тополями. Слева во дворе был дом европейского типа, справа юрта. Чойбалсан сказал:
— Мы, кочевники, по старой памяти иногда проводим совещания в этой юрте. Но сегодня будем совещаться в русском доме, как мы его называем…
В "русском доме" вокруг застланного сукном стола расселись Малиновский, Плиев — на кителе отливала золотом Звезда Героя Советского Союза, — Чойбалсан, Цеденбал, Лхагвасурэн; перед каждым топографическая карта, раскрытый блокнот, карандаши.
Малиновский, не вставая, сказал:
— Позвольте, товарищи, доложить о том, как и когда войска выдвигаются к границе с Маньчжурией… По соображениям секретности записей вести не будем, — добавил он, откашлявшись и косясь на раскрытые блокноты и заточенные карандаши.
И покуда он откашливался, косился на стол, покуда удобнее усаживался на стуле и вертел головой — воротник кителя был тесноват, — именно в эти секунды в сознании окончательно выкристаллизовалась идея. Которая столько вынашивалась! Пустить впереди наступающих войск Забайкальского фронта не пехоту, как это бывало на Западе, а передовые подвижные отряды, в основе которых — танки, у него целая танковая армия. Не вводить ее в прорыв после пехоты, а сразу бросить вперед! Пренебрежение фронтовым опытом? Не пренебрежение — творческое использование с учетом местной специфики. Фронтовой опыт, в частности, учит: избегай шаблона. По данным разведки, на границе у японцев не сплошная оборона, а лишь войска прикрытия, главные же силы дислоцируются по ту сторону Хингана, следовательно, кто первым подойдет к хребту — мы или квантунцы, — тот и захватит горные проходы, не даст другому выйти на оперативный простор. Рискованно пускать танки, по существу, в отрыве от стрелковых дивизий? А что за война без риска? Но и взвешено все. Протаранить танками оборону приграничья, перевалить Большой Хинган и рвануться на Чанчунь, в глубь Маньчжурии!
Танковую лавину трудно будет остановить. В общем, эту идею он кладет в основу своего решения на наступление Забайкальского фронта и надеется: Ставка одобрит его. Но это — в свой черед.
Сейчас же — о сосредоточении советских и монгольских войск.
6
Мне снилось: я в нижней рубахе и кальсонах, чистых, наглаженных, и Трушин в таком же белье и все другие, кого не узнаю, — идем в исподнем, идем походным строем. Беззвучно, невесомо. Как будто бесплотные. И вне времени, вне пространства.
Потом, когда проснулся и с тяжелой, дурной головой зашагал во главе ротной колонны, не покидало неприятное ощущение, оставался какой-то неприятный осадок: неладное нечто, не сулящее добра нечто привиделось во сне. Еще в детстве мама растолковывала: еслн приснится, что ты в белом, — к болезни. Что ж, выходит, все они заболеют — Глушков, Трушин и прочие? И весьма странно, что приснилось: одетые в белоснежное исподнее, они идут в походном строю. Нехороший все-таки сон…
Но солнце пекло, но жара давила и гнула, но жажда душила — словно чьи-то горячие беспощадные пальцы стискивали горло, — и постепенно сон отходил, мерк, как бы заволакивался степным маревом. Голова была по-прежнему дурная, однако уже не с короткого, неосвежающего спанья, а от жары; мысли, хоть и вялые, тягучие, были уже далеки от приснившегося: что там нереальное чистехонькое, разглаженное бельишко, когда натуральное — вот оно, просолилось, провоняло потищем! Кажется отчего-то, что и солдатские слова солоны от пота, пахнут потом. Долетают обрывки разговоров:
— Земли тут бедные. Да и поливать чем? Воды нет. Бахчи не будет, виноградника не будет. — Это Геворк Погосян, садовод, виноградарь, житель благословенной Араратской долины.
Прав он, почвы не шибко богатые: то суглинок, то песок, и везде камни и камешки. Чуть ветер — мельчайшие из них поднимаются в воздух, летят вместе с желто-серой пылью. Береги глаза, это Глушков уяснил с первых часов пребывания на монгольской земле. Сам уяснил и солдатам вдалбливал. Окосеешь, как целиться будешь? Кстати, и оружие береги.
— Землица, скажем прямо, не то что у товарища лейтенанта на Дону. Или где-нибудь на Кубани. — Голос Толи Кулагина, тоже специалист по сельскому хозяйству, полевод, звепьевой, шишка на ровном месте. — Ее, землицу-то, удобрять надоть. Минеральными удобрениями, а также, извиняюсь, дерьмом. Гляньте, сколь в степях засохших коровьих блинов да конских яблок. Зазря удобрения пропадают…
— У нас в Сибири на сильном морозе бывает: лошадь только что выбросила из себя яблоки, так они сразу подскакивают. Как резиновые, как живые! С морозу! — Свиридов.
— Конского и коровьего дерьма везде очень много, Кулагин правильно говорит. Сколько б кизяка можно изготовить! Целую зиму топить, две зимы, три зимы топить! — Это Рахматуллаев Шараф.
Головастиков говорит:
— А какие землячки за кордопом? То есть в Китае?
Ответствует всезнайка Вадик Нестеров:
— Богатейшие! Плодороднейшие! Особенно в речных долинах…
— А живут китайцы бедно, прямо-таки нищенски, — говорит другой энциклопедист, Яша Востриков. — Феодализм, помещики, кулаки, иностранные капиталисты… Десятилетиями грабят трудовой люд… А японские захватчики? Они зверствуют, как немецкие фашисты! Жгут, расстреливают, насилуют…
— Вах, шайтаны! — От гнева у Рахматуллаева краснеют лицо, шея, хрящеватые, без мочек уши. — Эксплуататоры! Агрессоры! Сосут соки из парода. Издеваются!
— Вы мне скажите, — говорит Свиридов, — мы освободим Китай? Освободим. А не придет ли кто заместо японцев? Какой другой оккупант. Когда мы уйдем…
— Иль так-то не обернется — власть получат не трудящиеся массы, а буржуазные паразиты? — Это Драчев.
— Не должно быть! — авторитетно заявляет Микола Симоненко. — Для чего ж мы идем туда?
Погосяы покачивает массивной, львиной головой:
— Конечно… Да все же…
— И не сомневайся, Геворк! — Симоненко непререкаемо рубит воздух ладонью. — Освободим Китай, Корею и прочие порабощенные государства, а уж народ там разберется, что к чему!
— Не околпачили бы народ…
— Не околпачат!
Я посмотрел на часы. Что за чертовщина! Стрелки показывают одиннадцать, а ведь уже топаем не меньше часа, значит, должно быть что-то около двенадцати: марш начался ровно в одиннадцать.
Выходит, стояли? Поднес к уху. Тикают. Или только что затикали, а до этого стояли? Ох, дареные французские! До чего коварные, канальи! Подведут когда-нибудь крепко. Спасибо, подошел Трушин. Я справился у него о времени. Он глянул на свои:
— Двенадцать ноль-ноль.
Не говоря худого слова, я перевел стрелки на своих французских. Зашагали молча, плечом к плечу. Солнце шпарит все круче.
Пыль, жажда. Колодцев не видать, но где-то ж они имеются. Пыль залепляет глаза, рот, нос, хотя мы видим, как по-пному идут теперь машины: не растянуты, а близко друг к другу, не в линию, а уступами — так, чтоб едущие на задних машинах не глотали пылюку, поднятую передними. Все это распрекрасно, но мы-то покуда не в кузовах, мы-то на грешной земле, вымериваем ее своими ножками. Скорей бы и нам на колеса, ведь обещали же подбросить на сколько-то километров. Люди идут, понурившись, редко кто разговаривает, говоруны выдохлись. А моторы гудят и ревут неумолчно, земля дрожит от железного топота. Великий покой этой великой полупустыни нарушен. Война не любит, чтоб был покой…
— Раздолбаем Японию — клянусь, настрогаю кучу ребятишек, — сказал вдруг Трушин.
Я посмотрел на него. Что увидел? Да обычного Федю Трушина, лицо как лицо. Шутит, всерьез? Не поймешь. Иногда напускает на себя манеру так вот говорить, что не разберешь: шуткует ли, серьезно ли? Да и к перескокам в разговоре можно бы попривыкнуть: то об одном, а глядь, уже про другое заворачивает. Я и сам, признаться, перескакиваю…
— Штук пять ребятишек сработаю, как минимум! — продолжал он. — Даром, что ль, такие войны прошел.
— Гони уж до десятка. Жена будет мать-героиня, а ты отецгерой. Жми, Федюня.
Впервые назвал его Федюней — показалось: несуразно, коряво, обидно для Трушина, и вообще произнес нечто плоское про отца-героя, но Трушин засмеялся. Смех его был, однако, какой-то ненатуральный, будто Федор понуждал себя смеяться, будто нехотя обнаруживал щербатинку. И странный был смех — начинается мощно: хэ-хэ, а кончается слабо, тоненько: хе-хе.
— Даешь, Петюня! — Он плотно сжал губы.
А вот лицо не как лицо — явно обиженное: нижнюю губу отвесил, скривился, во взоре мировая скорбь. А-а, понятно: сержант Черкасов, командир отделения в третьем взводе. Причина его обиды: не сделали помкомвзвода, другого отделенного утвердили, — предложил комвзвода-3. Уважительная причина у Черкасова? Не усмехайся, Глушков: когда тебя не утверждали ротным, ты так же переживал, заспал, что ли, свои обиды? Не заспал, но после понял: не стоит переживать. В гуще солдатских тел раздалось, как вытолкнутое из этой гущи: "Ах ты, дешевка!" — "А ты дерьмо в траве!" — и сержант Черкасов, еще более скривившись, сказал с тоскливой строгостью: