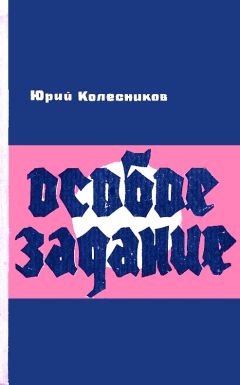Василий Яковлев - Разведчики
И тут появился этот славный шофер Петр Костомаров. Нет, не все плохо у нее в жизни, обозначился какой-то просвет. Правда, Петр всего лишь шофер, но ей ли выбирать! И потом в этом парне чувствуется уверенность, сила, то, чего недостает ей, Люсе.
Вел себя Петр отнюдь не нахально. Да и разговорчивым этого парня не назовешь. Оживлялся он лишь в двух случаях: когда речь шла о доме или о ее, Люсином, прошлом. Ну дом, понятно, а вот ее прошлое… Люсю удивляло, почему оно так интересует Костомарова. Настоящее-то и его и ее куда неприглядней — оба на немцев работают. Но Петр настаивал: понимаешь, хочу все-все о тебе знать. Люся умилялась и рассказывала. Не все, конечно. Особенно о многом приходилось умалчивать, когда речь заходила о военном времени. Ну, жила в Красногорске, ну, не выдержала бомбежек, ушла. Здесь у нее была подруга. Ее не разыскала.
Как попала к Вадлеру? Да, видимо, так же, как и ты в ресторан, — жрать-то надо, вот и пошла работать. А не все ли равно — у Вадлера или еще где? Но Петр-то знал, что далеко не все равно. И как он ни бился, не мог узнать, случайно ли попала Зембровецкая к Вадлеру или сожгла за собой все мосты и пошла на предательство.
До назначенного часа еще оставалось время. Теперь Галя могла не спешить. Она шла медленно, внимательно оглядываясь по сторонам. Не впервые она в Приморске, но каждый раз проходила по улицам с новым чувством. До войны это была радость. Ничем не омраченная радость встречи с красивым, полюбившимся городом, сверкающим морем, тенистой набережной с огромными каштанами.
Когда, выполняя задание, партизанка-разведчица Галя Миронова попала в этот город, уже занятый фашистами, она вначале ничего кругом не видела. Шла, потупив глаза в землю, потому что боялась: они, ее глаза, выдадут ненависть, которая переполняла душу.
Потом пришло хладнокровие — Галя научилась владеть собой. Ненависть и ярость не исчезли, они просто отошли вглубь, уступив место точному расчету, уверенности в себе. Она знала теперь: не враги хозяева на этой земле. Не они, а она, Галя, и те, кто сражается с ней рядом. Лиза Веселова, отважная девочка Маринка, знающая в родном Приморске каждую щель в заборе, каждый закоулок. Петр Костомаров… К Петру у Гали особое чувство: этот паренек частица ее довоенного прошлого. Он знал ее Василия, воевал с ним. С Петром, с ним одним, вернувшись с задания, она могла, присев у костра, говорить о любимом… Где-то сейчас Петр?
Первая, невидимая линия фронта. Зачастую на ней происходят совершенно беззвучные, незаметные постороннему глазу сражения. И только противник, подсчитывая потери, ощущает удар.
Бывают на первой линии фронта и свои затишья, и решающие сражения. Но чаще идут «бои местного значения». Каждодневные, упорные, так непохожие на то, что мы подразумеваем под словом «бой».
…Вдоль полотна железной дороги идут двое — кокетливая, нарядно одетая девушка и щеголеватый немецкий офицер. Он что-то нашептывает ей, а она, отвернувшись от него, небрежно слушает, изредка бросая: «Да что вы?», «Да бросьте вы!», «Да ну вас, тоже скажете…»
А по другую сторону железнодорожного полотна, на запасных путях вагоны… Девушке удается разглядеть под брезентом, завернувшемся с одного угла, очертания орудия, ящики, очевидно, со снарядами.
Через два дня скопление грузов бомбит и уничтожает советская авиация. А Лиза Веселова, отпросившись у директора ресторана, едет на два дня в пригородный совхоз к больной тете. Вскоре торопливый перестук морзянки сообщает в эфир, что там, в совхозе, неподалеку от железнодорожной вышки расположен большой склад боеприпасов. Ориентир — труба инкубаторной станции. Тут же поблизости в больших коровниках склад взрывчатки.
Группа партизан совершает налет на гарнизон, поджигает склад с горючим, взрывает боеприпасы.
Еще через несколько дней Лиза несет ужин своему «покровителю» Розенбергу. У него в приемной Вадлер, Бергер и два их подручных. Замешкавшись у двери, Лиза слышит: «Волчанов по Набережной во дворе направо…» А потом Вадлер ломает голову над тем, кто мог предотвратить провал патриотической группы Волчанова.
А кто заподозрил бы бесстрашного, опытного солдата в Маринке, этом длинноногом, кудрявом подростке, смуглой глазастой гречаночке? Целыми днями бегает девчонка по улицам, и не удивительно: дома-то никого нет — и мать, и бабушка, и сестренка погибли от фашистской бомбы в первые дни войны. Бегает девчонка по городу, озорничает. Ни одного дерева не пропустит — все коленки о ветки издерет. Ни одной дыры в заборе не минует — нырнет обязательно… Никто этому не удивляется, ну что возьмешь с озорного несмышленыша. И никому в голову не придет, что, раздвинув ветки дерева, девочка внимательно вглядывается в огороженный высоким забором двор через дорогу. И считает: десять танкеток, пятнадцать автомашин, десять мотоциклов, двенадцать минометов. А потом кокетливая официантка из ресторана, встретив девочку на улице, останавливается, жалостливо гладит ее по головке, сует конфетку. Девочка смеется, но конфетку не берет, отпихивает. Официантка недовольна — подумаешь, какой гордый ребенок. Прячет конфетку в сумочку, громко щелкает замком. Девочка вприпрыжку убегает, официантка из ресторана идет своей дорогой. И никто не догадывается, что в сумочку вместе с отвергнутой конфеткой она опустила свернутый в трубочку крошечный листик бумаги. Потом, бережно его расправляя, Галя Миронова вытвердит наизусть: в… районе столько-то танкеток, столько-то автомашин… и так далее…
Вот так и воюет их незримый фронт. По-своему бесстрашно, по-своему доблестно. Все они безвестны, порой и умирают безвестными. Но не в этом дело. Они защищают свою Родину. Это главное.
Уже глубокая ночь. Город спит. И окна маленького домика на окраине тоже темны. Но в доме не спят. Две девушки сидят у стола, тесно придвинувшись друг к другу. Разговаривают громким шепотом.
— Ну, вот, Галинка, и все, что могу сообщить на этот раз. Вадлеру я за тебя словечко замолвила. Так что все в порядке. В госпитале нужны санитарки.
А насчет документов не сомневайся. Настоящие, немецкие достала. И знаешь как? Со стола у этой Рубцовой взяла. Она растяпа порядочная. Вечно все разбросает. А я обед Розенбергу принесла, смотрю — никого в приемной, ну и положила несколько этих бумажек в карман. Уже и печати на них стояли.
— А если она узнает? Тогда ведь тебе, Лиза, несдобровать.
Лиза беззаботно тряхнула головой, длинные серьги ее тонко звякнули.
— Ты же знаешь, в нашем деле без риска нельзя. Бояться да оглядываться, так и не сделаешь ничего. Я же не первый раз это делаю. У нее, по-моему, все без счета. Иначе сразу бы панику подняла. А если бы и заметила, я сейчас к Розенбергу и в слезы. Дескать, не знала, что важное, думала, валяется ненужное. Вот и протерла этими бумажками стакан.
— Послушай, Лиза, вот ты говоришь, эта Рубцова — растяпа. А какая она еще?
— Я же тебе говорила. Красивая. Спокойная такая. Очень вежливая. С ней даже бешеный Вадлер и тот почтительно разговаривает.
— Не понимаю я, Лиза, как она может предавать, врагам служить и быть спокойной, уверенной… Она должна бояться, мучиться.
— Так она же, Галя, умная очень. Вот, понимаешь, вражина, а умная. Столько лет до войны среди нас жила, замужем за хорошим человеком была, а ни он, ни мы не знали, что она тварь.
— Да, такие куда опасней этой Людмилы.
— А то… Знаешь, Галинка, я вот думаю, многого до войны мы друг о друге не знали, да и самих себя тоже не до конца. Вот возьми меня. Кем я была, что обо мне думали? Работу свою я не очень любила, учиться не хотела. Все мысли — только бы поскорей свое отработать, да нарядиться, да погулять, попеть, потанцевать. Веселье да наряды — вот и все. Так меня пустышкой-свистулькой и звали. В комсомоле состояла, а толку-то? Разве что самодеятельность — тут я первая.
— Да что ты говоришь мне, Лиза, знаю я все это. Я же в горкоме у инспектора сидела, когда о тебе речь шла.
— Вот, вот, — Лиза тихонько рассмеялась. — А помнишь вторую нашу встречу, здесь уже?
— Еще бы! Эта непредвиденная встреча могла очень худо кончиться. Подумать только, меня потому и посылают сюда, что здесь знакомых нет. И вот…
— Нет, не права ты, — перебила ее Лиза, — не могла та встреча для тебя плохо кончиться. Я тогда уже понимала, что к чему. Подожди, не перебивай меня… Знаешь, Галя, ведь меня в начале войны в горком вызывали, спрашивали — эвакуируешься? А я заявила: останусь. Не потому, что немцам хотела служить, нет, даже и мысли такой не было у меня. Просто не задумывалась над многим. Проживу, дескать, и при немцах неплохо. Не одна же я тут останусь. Море останется, каштаны, да и парни будут. А там, смотри, и наши скоро вернутся. Ты не смейся, Галя, я действительно так думала. Правда, думала и другое: может быть, пригожусь. А когда эти пришли… Вот говорят: жизнь, как в тяжелом сне, началась. А у меня наоборот: словно проснулась я. Море загажено, под каштанами хари противные ходят, в глаза заглядывают, пристают, так и норовят в душу плюнуть. А парни, наши парни… На виселицах за колючей проволокой умирают, но не сдаются… И такая злость меня взяла. Эх, отродье фашистское, думаю, да не жить, не хозяйничать вам на нашей земле! Грызть вас зубами буду, рвать ногтями, ногами топтать… Это я, конечно, как говорят, образно выражаюсь. А только, Галя, твердо решила я тогда бороться. Чувствовала, и в городе есть люди, которые так же, как я, думают, да не только думают, а делают что-то, приходилось и о партизанах слышать. А вот как встретить таких людей, не знала. Одна много не сделаешь! Стала я в ресторане слушать, что пьяные полицаи лопочут между собой, немецкой-то речи я тогда совсем не понимала. Приходилось и важное слышать, только все это мертвым грузом у меня оставалось. Душа горела, действия просила. Уж совсем надумала было в горы уйти. Пойду, думаю, буду ходить, ходить до тех пор, пока партизан не встречу. Ну, а тут ты подвернулась. До чего же я обрадовалась тебе… Помнишь?