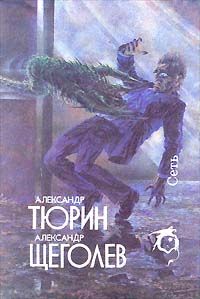Александр Андреев - Ясные дали
Возмущенный таким насилием, Бурмистров попытался сбросить руку Чертыханова со своего плеча.
— А ты что за шишка?
— Я не шишка, я солдат. Идем, говорю.
Бурмистров, видимо, считал зазорным для себя покориться и отступить; он начал вызывающе препираться с Чертыхановым. Сержант Гривастов, придвинувшись, мрачно бросил:
— Ну? Пшел! — Каменное лицо его с дергающимся шрамом на щеке угрожающе нависло над головой Бурмистрова. Боец, недовольно ворча, отошел, шлепая оторванной подошвой; цветок ромашки взлетал белокрылой бабочкой при каждом его шаге.
— Видали? — спросил лейтенант Стоюнин, указывая на Бурмистрова. — Вот вам моральный облик… — Случай с сапогом бойца сильно взволновал его.
Щукин спокойно объяснил:
— Общеизвестно: то, что создается многими годами, большими усилиями, может разрушиться в один день, даже в одно мгновение… Это относится и к дисциплине, в том числе и к воинской. Но я убежден, что таких бойцов немного, хотя они сейчас и в бедственном положении. Да и этот Бурмистров, мне кажется, не такой…
— У актеров есть одно очень хорошее правило, — сказал я. — Чтобы завоевать симпатию, и доверие зрителя, заставить его и страдать, и плакать, и смеяться, в общем, полностью подчинить его себе, необходимо, чтобы темперамент актера, его страсть, его воля были выше и сильнее воли зрителя.
— Верно, — отметил Щукин. — Жаль только, что это не театр и не игра на сцене, а война…
— Знаешь что, политрук, — сказал я. — Напиши такой текст… вроде клятвы. Коротко, сжато и сильно. Мы дадим каждому прочитать и подписать. У знамени.
— Да, это следует сделать, — живо согласился Щукин. — Я сейчас же и напишу. Плохо, что у нас бумаги нет…
Лейтенант Стоюнин отстегнул сумку, вынул блокнот и подал политруку, тонко улыбаясь:
— Дарю…
3Как я и предполагал, роты наши быстро пополнялись, — люди, двигаясь следом за наступающей немецкой армией, обходили деревни, занятые врагом, и забирались поглубже в леса. Они неизменно наталкивались или на избушку, — наш штаб, — или на бойцов одной из рот, занявших круговую оборону. Иные отбивались и уходили — то были трусливые одиночки, которые надеялись проползти к своим по всяческим темным щелям. Большинство оставалось у нас. Стоюнин распределял их по ротам, предварительно дав прочитать и подписать клятву.
Первым, два дня назад, подписал ее я. Мы выстроили роту бойцов на поляне. Чертыханов вынес знамя, надетое на срубленное и выструганное ножом древко. Я опустился возле знамени на одно колено и громко, отчетливо прочитал:
— «Я, воин Красной Армии, вступая в новое воинское подразделение, обязуюсь строго подчиняться воинской дисциплине, выполнять приказы вышестоящих командиров и политработников. Я полон решимости с боем прорваться сквозь вражеское кольцо окружения к нашим войскам, действующим на фронте. Я клянусь не щадить своей жизни в борьбе с ненавистным врагом. И если я отступлю или струшу в бою, то пусть меня, как предателя и труса, расстреляют мои же товарищи».
Я поцеловал знамя и встал. Мое место занял политрук Щукин. Потом лейтенант Стоюнин… Один за другим подходили бойцы к знамени и склоняли колени. Остался один Вася Ежик. Я твердо решил не взваливать на его худенькие и хрупкие плечики такую суровую и непосильную ношу Но мальчик бодро выдвинулся вперед, щупленький, в подпоясанном ремнем пиджачке, из-за пазухи торчала рукоять пистолета.
— Товарищ лейтенант, разрешите принять клятву! — звонко и настойчиво сказал он, вскинув на меня смешные дырочки вздернутого носа. В его решимости было что-то трогательное и неотступное. Я понял, что если откажу ему, то сразу как бы отделю его от бойцов и кровно обижу этим. Взглядом спросил политрука. Тот утвердительно кивнул.
Вася умел читать наши взгляды. Он уже стоял на коленях, снял кепочку с куцым козырьком и пуговкой посередке; белые волосы его были всклокочены, на макушке торчал задорный хохолок, такой же, как и у меня, когда я впервые пришел в школу ФЗУ и Сема Болотин, насмешник, обрадованно воскликнул: «А у нас как раз не хватает петушка для наших курочек!»; в тот же вечер я смочил волосы сладкой водой, чтобы они лежали…
Вася читал клятву наизусть, отчетливо и звонко, без запинки. Только слово «клянусь» как будто захлестнуло ему горло, голос осекся. Покосился на меня блеснувшим слезой глазом, как бы извиняясь за остановку, и, подавив в себе волнение, закончил бойко и даже беспощадно:
— «И если я отступлю или струшу в бою, то пусть меня, как предателя и труса, расстреляют мои же товарищи».
Глаза мальчика сияли. Я ничего не мог ему сказать — мешало волнение, — только положил руку на его белую голову, примяв задиристый хохолок…
Люди все прибывали. Их надо было прежде всего кормить. Двор старого лесника Федота Федотовича Лысикова почти опустел: выпросили у него взаймы трех последних овец; телку он ночью куда-то предусмотрительно угнал.
Вскоре нам неожиданно повезло. Я послал Чертыханова и Ежика на хутор, лежащий в четырех километрах от нас, строго наказав им, чтобы без продовольствия не возвращались. Они ушли ранним утром. При подходе к хутору повстречали старшину Оню Свидлера. Чертыханов узнал Оню издали, по очертаниям, как потом он объяснял: жердисто-длинный, пузыри галифе высоко, почти у пояса, а голенища сапог широкими раструбами наполовину прикрывали икры; на голове вздыбившийся пук густых, мелко вьющихся волос. Старшина, по-журавлиному задирая ноги, сбивая с ботвы бледно-синие глазки цветов, пересекал картофельное поле. За ним, чуть поотстав, плелись два красноармейца со скатками шинелей через плечо.
— Гляди, старшина! — проговорил Чертыханов, кладя на шею Васи тяжелую руку; глаза его почти суеверно округлились. — Свят, свят, свят… Воскрес из мертвых. Убей меня бог, воскрес, как по нотам! — И рявкнул в каком-то встревоженном исступлении: — Старшина! Оня!
Свидлер, перешагнув грядку, замер — одна нога в одной борозде, другая в другой, — пук волос встряхнулся.
— Проня, ты? — Он, должно быть, еще не верил своим глазам.
— Конечно же, я, Чертыханов! — крикнул Прокофий. — Кто же еще…
Старшина побежал, кидая длинные ноги сразу через несколько грядок. Споткнувшись, он растянулся, примяв зеленую ботву. Радость как бы обессилила его, он сидел в борозде, даже не пытаясь подыматься. На исхудалом, до черноты прокаленном, в черной щетине лице его сияла до прозрачности белая полоска зубов, накаленно лучились черные, словно покрытые лаком глаза.
— Проня!.. — прошептал Свидлер растроганно. Чертыханов присел возле него на корточки, с напускным разочарованием покачал головой:
— Ну, Осип, не оправдал ты моих прогнозов: я был уверен, что ты пошел на дно, как топор…
Оня засмеялся:
— Я и сам так предполагал. Но фашисты, гады, прекрасно обучают всяческим видам спорта: марафонскому бегу, плаванию… Швырнули меня в Днепр — плыви. И, видишь, выплыл! Все стили испробовал, пока за берег зацепился…
— Я всегда говорил, что нам полезно соприкасаться с фашистами вплотную. — Они засмеялись. — Молодец, Оня, что выплыл! Рад тебя видеть живым и здоровым! И лейтенант с политруком обрадуются.
Старшина изумленно вскинул брови:
— Где они?
— Со мной, — небрежно, как-то покровительственно обронил Прокофий. — Вот послали за пищей; умри, сказали, а пищу раздобудь. — Хитрое, плутовское лицо Чертыханова приняло скорбное, сиротское выражение. — Сидим, Оня, на монашеском пайке, постимся… Овощи, изредка печеная картошечка, пареная пшеница — вот и весь рацион…
— Голодают? — Оня энергично встал. — Что им надо? Курицу, барашка?..
Прокофий снисходительно хмыкнул.
— Закурить нет? О, «Беломор»! Где достал?
— По случаю. Ночевал в сарае у заведующей сельпо…
Чертыханов прижмурил глаза, глотая дым папиросы.
— Курицу, говоришь?.. Птица и вообще всякая крылатая живность для нежных желудков, Оня. Нам бы этак стадо свиней. Нас ведь больше трехсот человек…
— Вон оно что! — Старшина задумался, провел указательным пальцем по тонкой, хрящеватой горбинке носа. — Что ж, достанем и стадо. Идем.
Оня позвал двух своих бойцов, Чертыханов — Ежика. Они обогнули хутор и спустились в неглубокую балку. За крутым поворотом, в ложбине, нашли стадо — голов тридцать пять свиней и поросят и столько же коз. Козы щипали выгоревшую травку, козлята проказливо, боком, скакали на прямых, точеных ножках; свиньи распахали низину и лежали в прохладных бороздах. В отдалении паслась лошадь с хомутом на шее.
Пастух, мрачный мужик с заросшим черным волосом лицом, лежал на бугре рядом с телегой, животом вниз. Перед ним в вырытой ножом ямке был насыпан табак, смешанный с конским навозом, сбоку от ямки отходила трубочка — сухой полый стебель. Мужик подпалил курево и через стебель-чубук втянул в себя злой и вонючий дым.