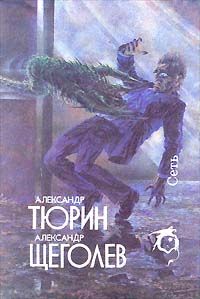Александр Андреев - Ясные дали
— Муж и жена, — заключил я.
Нина вздрогнула, встала на колени. Лицо ее было тревожным, трагичным и прекрасным. Из широко раскрытых, немигающих глаз катились слезы.
— Милый, уцелей! — приглушенно, отчаянно крикнула она. — Пожалуйста, уцелей! Для меня… Без тебя у меня не будет жизни! Ты мне нужен живой. Живой!..
Боль в сердце была невыносимо острой и мучительной. Глазам стало горячо от слез. Мы стояли на коленях в глухом далеком лесу, у мирно пахнущей смолой ели, смотрели друг на друга и плакали, не стесняясь своих слез. Мы плакали оттого, что приближалась минута расставания, быть может, навсегда, и что не разлучаться нам нельзя, что любовь наша висит на волоске и ее может оборвать любая пуля, даже нечаянная, даже шальная, — их много, они тонко, погибельно свистят над головой. Как жаль, что любовь часто является именно в тот момент, когда у людей нет для нее ни места, ни времени, ни сил, а до этого момента ее все дальше отодвигали глупые ссоры, обиды, недоразумения, ревность…
— Что бы ни случилось с нами, — проговорил я, — какие бы невзгоды и трудности ни выпали на нашу долю — не отступим, не сдадимся, не струсим. Будем бить врагов, пока бьется в груди сердце.
— Клянусь! — прошептала Нина, бледнея
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
То, над чем я упорно думал все эти дни, начало осуществляться как-то само собой. Толчком послужила избушка лесника, на которую мы набрели в конце дня. Она стояла с краю большой поляны, одинокая, заброшенная и старая, и только изгородь, крепкая, из белых березовых жердей, и за ней, перед окошками, высокие, выше человеческого роста, садовые ромашки с белыми, синими и лиловыми звездочками цветов удивительно преображали и молодили ее. Облитая жарким золотом клонившегося к закату солнца, она как будто празднично расцветала вся… На нас повеяло от этого домика неожиданной прелестью, уютом и покоем. Мы даже приближаться сразу не решились, чтобы не нарушить застывшего сказочного очарования.
— Вот это находка! — изумленно прошептал Прокофий Чертыханов. — Сказка! Оглянись-ка, Вася, тут где-нибудь Красная Шапочка грибки собирает… — Над трубой заманчиво, приветливо кудрявился жиденький пахучий дымок; Прокофий втянул его по-собачьи чуткими своими ноздрями. — Рай, товарищи! Нам обязательно надо испробовать райской жизни…
Солнце склонилось еще ниже, и тени от елей, удлиняясь, подползли к избушке, стерли с нее праздничную позолоту, и она вдруг скучно померкла, как бы униженно сгорбилась. На середине поляны нас грубо окликнули:
— Стой! Не подходи! Огибай стороной!..
Окрик застал врасплох, руки рванулись к оружию. Вася Ежик — он все-таки решил пробраться на Урал — тронул меня за локоть:
— Глядите, пулемет!
Из сеней в дверь станковый пулемет высунул свой задиристый и угрожающий нос. За пулеметом притаились два человека в военной форме, обросшие давно не мытой щетиной; глаза их осматривали нас хмуро и враждебно. Двое других находились в избе и тоже выставили в окна дула винтовок; пятый присел за изгородью на огороде. Встреча не обещала ничего хорошего. Мы со Щукиным переглянулись, как бы спрашивая друг друга: может быть, действительно не связываться, уйти? Во взгляде политрука скользнула насмешка: значит, капитулировать перед кучкой своих же бойцов, забывших воинскую дисциплину?
— Этого не может быть!.. — сказал я и с решимостью шагнул к домику.
— Не подходи, говорю! — опять крикнули из сеней. — Будем стрелять! Здесь вам нечего делать. Идите своей дорогой. — Холодно и неприятно щелкнули затворы. Вася Ежик вздрогнул, испуганно посмотрев на меня, потом на свой пистолет, из которого еще ни разу не выстрелил и который держал по всем правилам, уверенно. Я заслонил Васю своей спиной.
— Бойцы вы или бандиты? — крикнул я, чувствуя, как в груди тяжело закипает ярость. — Положите оружие!
Один из них зло засмеялся.
— А ты нам его давал?.. Мы вас не трогаем, и вы нас не касайтесь. Идите себе… ко всем чертям! — И опять враждебно прозвучал смех ненормального или пьяного человека. — Много вас тут шляется!.. Повидали!..
В глубине души я верил, что не может свой человек, даже если он и одичал вконец, стрелять в своего человека. Стиснув зубы, подавляя в себе страх, я направился к избе — прямо на пулемет. Чертыханов во время коротких переговоров с бойцами вынул из сумки противотанковую гранату и сейчас обогнал меня. Рассвирепев, он длинно и сложно, очень сложно выругался и взмахнул гранатой:
— Клади оружие, говорят! А то всех разнесу, как по нотам! Ах, гады, дезертиры! Вы кому угрожаете?..
Мы приблизились к избе. Двое у пулемета встали, растерянные и в то же время настороженные, готовые в любую минуту вступить в рукопашную.
— Эй, в избе, — крикнул Чертыханов, — выползай на свет!
Из избы в сени неохотно вышли два бойца с винтовками, виновато и подозрительно оглядели нас.
— Отдайте оружие! — приказал я. — Вася, прими.
Мальчик робко подступил сперва к одному, высокому и тоже небритому, взял из рук его винтовку, поставил в угол, затем взял винтовку у второго. Боец, задержавшийся на огороде, понял, что дело повернулось не в их пользу, перемахнул через изгородь и потянул к лесу.
— Куда! — остановил его Щукин. — Назад! Живо!..
Пятеро бойцов стояли возле крыльца, враждебно оглядывали нас, ожидая, что же будут с ними делать.
— Что вам надо от нас?! — крикнул высокий, со шрамом на щеке, в распоясанной гимнастерке; от него пахло водкой. Мутные глаза потеряли осмысленное выражение, как у всякого опустившегося и отчаявшегося человека. Острый, заросший щетиной кадык судорожно вздрагивал, словно боец не мог проглотить что-то. Вдруг голова его дернулась, взгляд дико вспыхнул, руки, схватив ворот, с силой располоснули гимнастерку до самого подола. Шагнув ко мне, он грудью уперся в дуло моего автомата, закричал бессвязно и истерично: — Стрелять будете? Дезертиры?! Так стреляйте!.. Немцы стреляли, теперь вы стреляйте! Не боимся!.. Все равно нет жизни!.. Волки мы, а не люди. Ну, чего ждешь? Пали! — Подбородок его вздернулся дерзко и презрительно, человек этот уже не помнил себя, глаза его застлала белая пелена.
— Встань на место, — сказал я спокойно.
Чертыханов легонько потеснил красноармейца, дружелюбно проворчал:
— Осади назад, дружище. Чего завизжал, как поросенок, словно тебя режут…
— Не хватай! — огрызнулся боец, отбивая его руку.
— Я не хватаю, прошу тебя вежливо. — В голосе Прокофия прозвучала уже грозная и нетерпеливая нотка. — Отодвинься, говорят, не напирай. Ишь ты… Разорался. Испугал… Ты на кого орешь? На лейтенанта! — Чертыханов, отодвигая бойца, понизил голос: — Ты знаешь, что это за человек? Ого! Он шутить не любит, даст по затылку, — маму родную забудешь… — Боец, отступив от меня, встал на старое место, в ряд со своими товарищами, недоуменно моргая на ефрейтора. — И рубаху разорвал, дурак. Как будешь воевать с голым пузом? — Чертыханов щелкнул бойца по голому животу. — Нехорошо бойцу Красной Армии щеголять в детской распашонке… — Красноармеец, протрезвев, закрывал грудь, соединяя разорванные половинки гимнастерки, косо и смущенно озирался. Вася Ежик, не удержавшись, прыснул; улыбка промелькнула по небритым и хмурым лицам бойцов. Прокофий, отогнув клапан нагрудного кармана, размотал нитку, затем вынул иголку и подал бойцу. — На, зашивай… — Боец нехотя принял иголку. — Как зовут-то?
— Гривастов, — угрюмо бросил боец.
— Рядовой?
— Сержант.
— А по петлицам-то и незаметно. Ай-яй-яй!.. Значит, отковырнул треугольнички и под каблук… А командование, небось, присваивало звание торжественно, приказ читало… Носи с почетом… Ну ладно, портняжничай. Бороды я вам всем опалю, если у вас нет бритвы, как Петр Первый боярам. Я это делаю, как по нотам, век не будут расти… Ух, и воняет же от вас, братцы, как от старых козлов…
Я поручил Чертыханову и Васе Ежику помочь бойцам привести себя в порядок. Вася, схватив в сенях ведро, сейчас же бросился к колодцу позади дома. Прокофий с чувством превосходства бодро покрикивал на бойцов, те, раздевшись до пояса, повеселев оттого, что гроза миновала, шумно плескались, умывая застаревшую грязь. Чертыханов правил на ремне бритву.
Мы со Щукиным вошли в избу. Здесь было тесно и сумрачно, застоявшийся запах немытой посуды, самогона, слежавшегося сена, крепкий и ядовитый, бил наотмашь, вызывая тошноту. На комоде были разбросаны фотографии, валялись белые мраморные слоники с отбитыми хоботами; со стены с портрета беспечно, наперекор всему улыбалось нам милое девичье лицо; девушка не подозревала, что в этой каморке когда-то, должно быть, чистой, полной свежего и зеленого воздуха, все перевернуто вверх дном. Над столом, заваленным остатками еды, висела семилинейная лампа с треснувшим стеклом. Развертывать знамя в таком помещении мне показалось оскорбительным.