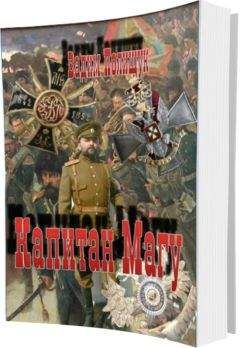Евгений Войскунский - Мир тесен
Так летом 51-го года я остался без работы. Вообще-то можно было без особых усилий устроиться на суше, пойти, например, техником на районный узел связи. Но заработки, заработки… Светка умоляла не искать работу на море. Она теперь, окончив мединститут, работала участковым врачом в детской поликлинике, лечила детей. Еще была жива ее мама, присматривала за шестилетним Колькой и двухлетней Наташей. А мне было нужно, чтоб моя семья не знала ни в чем недостатка. Из рейсов я привозил чудную одежку для детей, что-то, конечно, для Светки, сувениры для Евдокии Михайловны и Владлены. Себе не покупал ничего, кроме носков, один раз, правда, по настоянию Светки, купил в Антверпене дешевый костюм. Мог ли я позволить себе снизить уровень существования семьи? Может, вам покажется смешным, но старый Светкин жакетик, перешитый из моей военно-морской синей суконки, в котором она день-деньской носилась по своему огромному участку, был мне как укор.
Через бывшего сослуживца, переехавшего на Камчатку, завязал я переписку с кадровиками молодого Камчатского пароходства. Люди там требовались, мне выслали вызов, и в сентябре того же 51-го года я улетел в Петропавловск. На целых четыре года этот город стал моим пристанищем. Жил в общежитии, потом снимал комнату на Батарейной улице, под сопкой Мишенной, недалеко от кладбища. Из своего окна я видел Никольскую сопку (она же сопка Любви), разлегшуюся огромным медведем у края воды, а дальше синела прекрасная Авачинская бухта. Я полюбил этот необычный город, зажатый между горами и бухтой. Отрешенно сияла в небе снежная шапка Авачи. Тут был край земли, и земля была гористая, холодная — но горячая внутри, с вулканами, геотермальными водами, с нетронутыми полезными ископаемыми. Тут бы поставить электростанции на даровом подземном тепле. Но поди доберись до этого тепла: полное бездорожье, глубокие снега. Проще привезти танкер нефти…
Камчатку, не имеющую дорог (сейчас сказали бы: инфраструктуры), кормили несколько пароходов, в их числе и наш грузовичок, подымающий три тысячи тонн груза. Возили стройматериалы, продукты, промтовары — все, что нужно для жизни людей. Мы шастали вдоль восточного побережья, возили грузы в Жупаново, Кроноки, Оссору, Тиличики. Обогнув мыс Лопатку, снабжали западное побережье — Усть-Большерецк, Усть-Хайрюзово, Палану. Хаживали на Командоры, возили лес на Чукотку. Синяя ширь Авачинской бухты, окруженной снежноголовыми сопками, стала мне привычной, как канал Грибоедова. С Трех Братьев — трех скал у выхода из бухты — срывались поморники и, проносясь вдоль судна, желали нам счастливого пути. Однажды, несмотря на их напутствия, мы чуть не погибли, разнузданный шторм понес судно прямо на скалы острова Атласова — чудом удержались на плавучем якоре.
Светка то ругала меня в письмах, то подлизывалась, звала домой, называла мифическим мужем. Я прилетал в отпуск, привозил подарки, чимчу — острую корякскую капусту с чесноком, Наташке — грубоватых кукол, опущенных серым мехом. Мы блаженствовали месяца два, снимали дачу в Комарове. Однажды поехали в Крым, в Феодосию, где обосновался после войны Иван Севастьянович Шунтиков. Мы жили в одной из его двух беленых комнаток с крашеными суриком полами, пропадали на пляже, охотились с подводными ружьями на ставриду. Иоганн Себастьян и тут работал по медицинской части. Спирт он наливал, представьте, из той же легендарной фляги, помнившей скалы Гангута. Только чехол у нее теперь был новый. Если есть в этом неустойчивом, изменчивом мире нечто прочное и неизменное, так это наш славный Иоганн Себастьян. Вот уж поистине гранитный утес в неспокойном житейском море. Как удавалось ему так мудро располагать свою жизнь?
Я понял это позже, когда попалась мне книга Лукреция Кара «О природе вещей». Лукреций, что и говорить, наивен для современного человека, но, может, истинная мудрость и не бывает без наивности? Страстный эпикуреец, Лукреций излагает, прямо-таки проповедует философскую систему Эпикура о природе, о единстве тела и души, об атомах, сочетанием и движением которых объяснялась вся жизнь природы. Но меня особенно поразили в поэме разделы об этике — например, «Ложный страх смерти». Надо стремиться к невозмутимости духа, к спокойствию (атараксии), к разумному ограничению желаний — вот моральные нормы, ограждающие человека от страха перед смертью, от страданий. Отсутствие страданий и есть удовольствие. Немного смущали, правда, сведения о самом Лукреции, вычитанные в предисловии: он будто бы покончил с собой в припадке безумия, да и поэму свою, по преданию, писал в светлые промежутки между приступами болезни. Как странно! Но жизнь, давно известно, на редкость противоречивая штука. Поди удержи свой дух в величавой невозмутимости перед лицом каких-либо безобразий у тебя на работе или под ударами судьбы.
Но наш Иоганн Себастьян определенно порадовал бы старика Лукреция. Он-то, хоть и не слыхивал о славном римлянине, так и жил, ограничивая желания и невозмутимо глядя своими скифскими глазами на пеструю и звонкую от жгучего солнца феодосийскую жизнь. Он удовлетворялся малым — минимумом еды, одежды и развлечений, и к тому же приучил свою жену Клаву, бойкую бабенку с местной санэпидстанции. «Та нам с Ванечкой ничего не треба, — говорила она нараспев, — тильки рыбки шматок та краюха хлеба». Рыбка у них, между прочим, водилась отменная, бывал и азовский рыбец — пальчики оближешь.
Но я не об этом. Именно в Иоганне Себастьяне нашла Светка вернейшего союзника. Вместе они капали мне на мозги. Да что это такое, сколько можно мотаться по свету, тебе уже за тридцать, в такие годы мужчина должен жить дома, с семьей, а не где-то там на «отхожем промысле». Иоганн Себастьян со своей тупой методичностью довел меня едва не до бешенства. «Да, да! — заорал я, с трудом удерживаясь от желания запустить в него флягой или арбузной коркой. — Дерьмо я последнее! Знаю! И закончим разговор!» Светка испугалась, торопливо рылась в сумочке, искала успокоительные таблетки. Ночью шепнула: «Борька, прости мою назойливость. Я все выдержу. — И еще тише: — Только я ужасно беспокоюсь всякий раз, как ты в рейсе». — «Я люблю тебя», — сказал я. И пообещал, что в будущем году вернусь домой.
Накануне отъезда из Феодосии Светка закатила сердечный приступ, страшно меня напугавший. Я хотел сдать билеты, но Светка не разрешила. «Ничего, пройдет. — Она улыбалась. Ее загар странно побледнел, пожелтел. — Просто пережарилась на солнце. Не пугайся». Но полегчало Светке только дома, в Ленинграде.
Мне шел тридцать третий год. Пожалуй, следовало подвести некоторые итоги жизни. Они были неудовлетворительны. Начальник рации на скромном работяге-сухогрузе, шастающем вдоль берегов Камчатки, Чукотки и Курил, — достижение не из великих. На заочном отделении истфака — вы правильно догадались — я не доучился. Правда, недостаток образования добирал книгами. Читал много и в общем-то без разбора, но, пожалуй, была и система. Классики всех времен и народов шли вне очереди. Читал я попадавшиеся в библиотеках книги по философии — от нашей до буддистской. Ломал себе и без того не крепкие, помнившие цингу зубы, к примеру, на трудном китайском учении о единении душ Да-тун. Выписывал из книг понравившиеся цитаты в общую тетрадь. Иногда посылал их в письмах Светке. «Вот я прочел, — писал я, — что самая сильная страсть человека — быть отраженным другим человеком. Предпочтительно — женщиной. Что ты об этом думаешь?» Светка писала в ответ: «Борька, я не знаю, хочу ли отразить тебя. Но очень хочу, чтоб мы жили вместе. Кольке десять лет, стал непослушный, учительница говорит, что в школе дерется. Нужна мужская рука…»
Неудовлетворительность первых итогов я усматривал не в скромности служебного положения. Не в том, что так и не получил высшего образования. Это все не беда. Знак минус рисовался в затянувшейся разлуке. Но виноват в этом был только я сам.
Я предупредил в кадрах плавсостава, что плаваю последнее лето.
А «ихий океан решил напоследок показать мне все, что он умеет. Штормы того лета сменяли один другой почти без передышки. С ревом они вздымали наш сухогруз к небесам, низвергали в черные бездны, где не было воздуху, одна водяная пыль, пароход стонал, кричал от боли старыми своими переборками, а мне было впору молиться. Неужто я уцелел на войне, на кронштадтском льду, в торпедных атаках для того, чтобы лечь на холодное дно Охотского моря?
Один из последних рейсов того лета мы выполняли на Владивосток. Приняли там груз, снялись, благополучно пересекли Охотское море. На подходе к Курилам, к проливу Крузенштерна, на нас обрушился очередной шторм. Шли медленные волны-горы, которым ничего не стоило шмякнуть наше суденышко о скалы, именуемые Ловушкой. Наш штатный капитан был в отпуску, а подменный капитан Нефедов, мало мне знакомый, почему-то не вызывал доверия. Наш бы сидел сейчас в своем кресле на мостике, не доставая короткими ножками до палубы, и отдавал толковые распоряжения. А этот Нефедов торчал у локатора, то и дело глядя на развертку, и свет плафона неприятно отражался на его бритой веснушчатой голове. Именно такую картину я увидел, войдя в навигационную рубку с какой-то радиограммой.