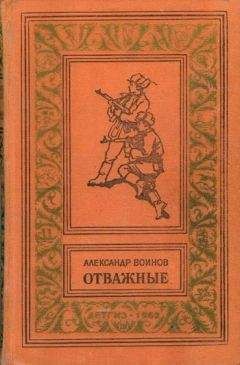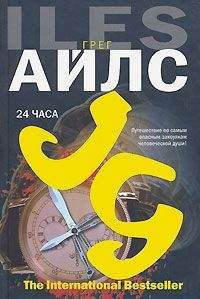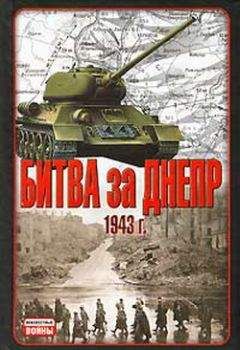Анатолий Заботин - В памяти и в сердце (Воспоминания фронтовика)
Провести беседу труда для меня не составляло: говорить я умел, Сталина любил. Верил ему, хотел, чтоб и каждый боец был предан вождю так же, как и я. И цели своей, как мне кажется, достиг. Все были готовы идти в бой, бить врага метко, не давать ему пощады. Глазунов. Трапезников, Романенков, Разумов Гриша во имя Родины готовы были на любой подвиг. Их лозунг: «С именем Сталина только вперед и ни шагу назад». Ох, как меня это радовало. В ночь на 21 декабря спал абсолютно спокойно, знал: 7-я рота в бою не посрамит себя.
Курченко эти два дня был занят не меньше меня. Он часто отлучался к командиру батальона, все что-то с ним уточнял, уяснял. Топографическая карта у него вся была изрисована красными стрелами. Наконец незадолго до боя он то ли всерьез, то ли в шутку спросил:
— Ну как, политрук, до Хельсинки наши с тобой бойцы дойдут? Силенок у них хватит?
— Дойдут, — уверенно ответил я. — Мы не одни, с нами Сталин!
Курченко посмотрел на меня с улыбкой, хотел что-то добавить, но не решился.
С каким настроением ждал предстоящей битвы наш опытный командир батальона капитан Кузнецов, не знаю. Судя по тому, каким он был мрачным, думаю, что она его не шибко радовала, но приказ есть приказ. Он обязан его выполнить.
Наконец наступило утро 21 декабря, дата начала нашего выступления. У меня настроение было боевое. Вспомнились тактические занятия в училище. Мне они нравились: проходили интересно и, как правило, с полным разгромом противника. Одержав победу, мы отмечали отличившихся в «бою». И мне представлялось, что сегодняшнее наступление пройдет так же успешно, как мы «наступали» в училище. О возможных потерях, конечно, думал, но сознание на этом не концентрировалось. Тем более что наступаем мы в необычный день — в день рождения Сталина. И он неотлучно с нами.
По команде капитана Кузнецова снялись со своих, уже обжитых за две недели мест и пошли. Все три роты, весь батальон. Идем цепочкой, друг за другом. Растянулись на километр. Командование батальона впереди, моя 7-я рота — замыкающая, рота Горячева — направляющая. Идем. Шаг умеренный. Снег взмесили так, что ноги тонут, как в сыпучем песке. Через каждые 10–15 минут останавливаемся, порой надолго, минут на 20. Почему, мы с Курченко не знаем. Маскировка самая тщательная, разговариваем только шепотом. В лесу так тихо, словно и нет войны. Даже финских автоматов не слышно. Мы с командиром роты переглядываемся, недоумеваем: почему останавливаемся, почему тишина?.. После очередной остановки батальон снова двинулся в сторону противника. Идем немножко быстрее. Но меня продолжает удивлять все та же тишина. Уж не драпанули ли финны со своих позиций? Новая остановка. Курченко мне говорит:
— Комбат у нас опытный вояка, на рожон не хочет лезть. Разведает, убедится, что путь не опасен, и только после этого дает команду «вперед».
Стоим с ним, разговариваем. Скоро и бойцы подошли к нам. У всех ушки на макушке; осторожно выпытывают, что нас ждет в ближайший час.
Вдруг слышим голос:
— Где Курченко? Заботин где?
Посыльный от комбата передал нам приказ немедленно явиться в голову колонны. Бежим. А там уже собрались все командиры рот, политруки. Кузнецов, Ажимков. а рядом с ними еще два офицера, мне не знакомых, стоят в сторонке с картой в руке и о чем-то рассуждают, спорят. Слышнее всех голос Кузнецова. Тем временем растянувшаяся колонна произвольно начинает сжиматься, подтягиваться к голове. Вскоре вокруг нас собралось множество бойцов. Куда ни брось взгляд, везде полушубки, полушубки. У одних еще довольно белые, у других — замызганные, местами почти черные. Я с нетерпением жду, когда комбат Кузнецов объяснит обстановку, отдаст приказ ротам. Общая задача ясна: взять весьма незначительный поселок Великая Губа. Но детали, частности?
Время идет, а комбат медлит. Мы стоим, переминаясь с ноги на ногу, зябнем. А тут еще кто-то совсем случайно, копаясь от безделья в снегу, обнаружил давно убитого нашего советского солдата. Выволок его из снега и положил на видном месте: смотрите, мол, как бы и нам не сподобиться такой участи. Я сделал ему замечание. «Зачем, — говорю, — вы его откопали? А тем более выставили на обозрение...»
Этот откопанный мертвый боец был первой увиденной мною жертвой войны. Мне стало не по себе. Смотрю на убитого. Дома, наверное, ждут от него писем, а он лежит тут в глубоком снегу. Поднимаю глаза на своих бойцов, на тех, кто давно на фронте, кто не раз видел кровь, видел убитых. Они довольно спокойны, если не сказать равнодушны. Я распорядился труп закопать обратно в снег.
Хочется поскорее уйти с этого места, скорее вступить в бой, освободить поселок. Но команды все нет. По-прежнему топчемся на одном месте, а мороз щиплет нос и щеки, хватает нас за пальцы рук и ног. Бойцы, чтоб разогреться, начинают плечом толкать друг друга. И вдруг в тишину вторгается резкий и короткий звук разорвавшейся гранаты. Все оборачиваются в ту сторону, откуда донесся этот зловещий звук. Из лесу медленно движется, пошатываясь, боец. Правая рука у него оторвана. Обрывки закоптелого, пригоревшего мяса висят лохмотьями. На лице же не видно ни ужаса, ни боли. Боец молчит, не зовет никого на помощь, шагает себе и смотрит пристально на свою изуродованную гранатой кровоточащую руку. «Что произошло? Кто это его так? — теряюсь в догадках. И вдруг мозг пронзает мысль: — Сам! Сам это сделал. Умышленно!» И едва он подошел, как я накинулся на него с гневом:
— Стервец! Ты что натворил? Воевать не хочешь? До самострела унизился? Под трибунал пойдешь!
Нас окружили бойцы всех трех рот. Одни смотрят на беднягу с состраданием, а у некоторых в глазах — явная зависть. Вот, мол, отвоевался; из госпиталя теперь одна дорога — домой. Большинство же, однако, во всем с ходу разобравшись, гневно осуждают слабака. Кое-кто готов немедленно устроить самосуд... Но тут сквозь толпу прорывается комиссар Ажимков. Я еще продолжаю отчитывать самострела, а он с гневом прерывает меня:
— Заботин, замолчи! Это не то, что ты думаешь, это несчастный случай! Правильно, товарищ боец, — обращается он к раненому, — несчастный случай?
И боец, ободренный его словами, начинает путано, но горячо объяснять, как это все случилось.
Все понимают: врет. Но каждому понятна и позиция комиссара: ЧП в батальоне — это ЧП. И отвечать в первую голову будет комиссар: недоглядел, ослабил морально-политическую работу. За такие промашки по головке не гладят. Я тоже не желал комиссару плохого, поэтому не стал ни на чем настаивать. Умолк.
Комиссар вызвал санитаров, те обработали раненую руку, забинтовали, и боец торопливо, словно боясь, что его могут вернуть обратно, засеменил в тыл. Война для него была закончена.
А в 8-й роте, где политруком был Шелков, еще долго говорили об этом случае. Шелков злился, пресекал подобные разговоры. А в душе был благодарен комиссару батальона. Расцени он это событие как ЧП, и Шелкову бы несдобровать. Как, разумеется, и самому комиссару.
В тот же день я встретил Шелкова и говорю ему:
— Ну как, отлегло от сердца?
— Отлегло. Спасибо комиссару. Вот так в нашей работе. Один стервец сделал себя инвалидом, чтоб от войны отвертеться, а нам отвечать.
Наступать в тот день на Великую Губу нам так и не пришлось. Не получил товарищ Сталин в свой день рождения от нас подарка. Командование полка прикинуло наши силы и, видимо, не решилось идти на хорошо вооруженного, прочно укрепившегося противника. Еще засветло мы получили приказ двигаться обратно, на исходные позиции.
* * *
Вернуться бы в те, уже обжитые нами фронтовые жилища. Какая это была бы для нас радость! Но нас привели на новое место. Куда ни глянь — сосны, березы, разлапистые старые ели. Под ногами глубокий снег, а над головой — морозное звездное небо. Всем трем ротам было приказано рассредоточиться, занять круговую оборону. Как всегда, предупредили: противник рядом, строго соблюдать маскировку. Костров не жечь, громко не разговаривать, огонь папиросы и тот прятать.
Мы с Курченко обошли расположение роты. Расставили посты, указали сектор обзора и, как всегда, решили отдыхать по очереди. Сначала спит один, потом другой. И на этот раз я предложил командиру роты отдыхать первому, он не согласился. Сказал: «Сначала ты отдыхай, а потом уж я час-другой сосну».
Я ушел во взвод Романенкова. Лег. И вот странно: спать хочется, а уснуть не могу. Все время кажется: вот-вот нагрянут финны... Лежу со слегка ослабленным ремнем, под боком — сосновые ветки. Голову прислонил к холодному стволу сосны. Кажется, сплю, а все слышу. Слышу не только отдаленное татаканье финских автоматов, но и скрип снега под ногами у расхаживающего вблизи часового.
Не помню, сколько времени я пролежал, вдруг голос Курченко:
— Солдат, где тут спит политрук?
— Не знаю. Видел, он сюда проходил!