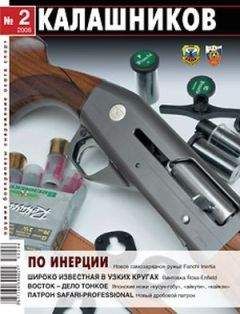Анатолий Кучеров - Трое
Но он не мог этого никому сказать, потому что жалость уже давно стала преступлением.
Выйдя от своих начальников, повар, именно потому, что на мгновение испытал чувство жалости, испугался: а не услышал ли кто-нибудь его безмолвную мысль?
Во дворе мальчишка-солдат собирался надеть седло на норовистую лошадь и ходил у точеной умной морды. Повар крикнул ему:
— Опять партизана привели! Стреляли бы их на месте...
В то время, когда повар ставил поднос на стол, Морозов заметил тень сочувствия, мелькнувшую на его лице. Но по тому, как тот сразу отвел глаза, он вдруг понял, что ему нечего ждать и не на что надеяться.
Офицер за столом был одних лет с Морозовым. Широкое лицо, маленькие усики, которые он носил, видимо, подражая главе государства, и крепкий тяжелый подбородок были полны энергии. Другой офицер, старый, с усталым сонным лицом, с редкими седыми волосами, зачесанными на затылок, не смотрел на Морозова. Он придвинул к себе чашку и наливал кофе. И по тому, как он наливал кофе, было видно, что он старший по чину и хочет дать возможность молодому заняться этим неинтересным и скучным делом.
— Du bist{1} партизан? — резко спросил офицер, испытующе глядя на Морозова.
— Развяжите руки, — сказал Морозов.
— Den Übersetzer, schneller.{2}
Солдат, складывавший карту, выбежал из комнаты.
Вошел человек в тирольской шапке с куриным пером. Только теперь Морозов мог разглядеть его ничего не выражающее, холодное, мертвенное лицо, на котором будто на всю жизнь застыло пугливое лакейское выражение.
Переводчик склонился к офицерам и что-то зашептал.
— Отвечайте: вы партизан? — вкрадчиво спросил переводчик.
Морозов молчал.
— Вас спрашивают в последний раз.
— Развяжите руки.
Переводчик махнул солдату, тот подскочил и развязал руки Морозову.
— Партизан?
— Нет, — сказал Морозов.
Сейчас ему было все равно. Для него все было кончено, он видел это по лицам офицеров. Во всем этом не было его вины, он никогда не работал разведчиком на земле, на земле он не умел воевать. Он просто ничего не знал об этой войне, он впервые видел противника, даже пленных он видел только издали. Он непоправимо ошибся, надо было узнать, кто в доме. Ужасно глупо, мальчишески глупо!.. Борисов и стрелок могут погибнуть так же бессмысленно по его вине. Эта мысль показалась такой мучительной, что он забыл об остальном.
Он машинально наклонился завязать шнурок ботинка. Конвойный стремительно ткнул его автоматом под ребро:
— Stehen!{3}
— Обыскать, — крикнул офицер.
Солдат подскочил к Морозову. Карманы его были пусты, если не считать ста марок. С него сняли ботинки и портянки, и он стоял теперь босой.
На столе перед офицерами лежали две книжечки. В одной, синей, было сказано, что владелец ее Николай Морозов, капитан полка морской авиации, в другой, красной, что он член Союза коммунистической молодежи.
— Господин оберст, — подобострастно сказал по-немецки переводчик, — пленный — капитан морской авиации, член Союза коммунистической молодежи.
Оберст брезгливо отодвинул от себя обе книжечки и чашку, из которой пил кофе, вздохнул и сказал:
— Расстрелять. Мы не берем в плен коммунистов. Расстрелять для ровного счета.
— Для какого счета? — переспросил офицер.
— Для ровного, — повторил оберст. — Мне не хватает двух человек для ровного счета.
Офицер посмотрел на оберста и, решив, что это шутка, улыбнулся.
«Мы передали бы его гестапо, но части гестапо уже выступили из города, нам, собственно, ничего не нужно от этого капитана, — подумал офицер. — Расстрелять так расстрелять».
— Переводчик, переведите, я задам несколько вопросов.
— Где вы взяли эту одежду? Сто марок? Зачем переоделись? — спросил переводчик.
— Одежду снял с убитого, у него в кармане были марки, хотел добраться до своих.
Переводчик перевел ответ Морозова офицерам.
— Вы убили этого человека? — хотел спросить младший офицер, но оберст сказал, что в данном случае это совершенно безразлично.
— Расстрелять, — и он махнул рукой. — Тьяден! — крикнул оберст.
В дверь заглянул унтер-офицер.
— Припиши одного, — сказал оберст, — мы чисто с тобой работаем.
— Так точно, — ответил Тьяден.
Младший офицер посмотрел на оберста. Что-то почудилось ему странное в этом начальнике. И почему он во главе похоронной команды? Дело для унтера. Но оберст, видимо, служил в каких-то частях тыла и случайно оказался с этой командой при отступлении и шел с ней. Впрочем, некогда было об этом раздумывать, он получил приказ отступить, и тащить этого парня в гестапо он не мог. Партизан тот или летчик — его свинячье дело. Военно-полевой суд в составе двух офицеров приговаривает его как коммуниста к расстрелу, и пускай отправляется в ад.
Морозов понял жест старшего офицера. Холод пронзил его от босых ног до сердца; на мгновение оно будто остановилось, но тут же справилось. Он почувствовал ток крови, прихлынувшей к лицу, и сказал, не думая, бессознательно:
— Позвольте надеть ботинки.
— Иди, иди, — ответил переводчик, усмехнувшись. — Тебе теперь не нужны ботинки, обойдешься.
— А, шкура! — крикнул Морозов, и ярость, бешеная ярость лишила его дыхания. Но оба конвойных повисли у него на руках.
— Fort mit ihm!{4} — сказал оберст и придвинул к себе карту, еще не убранную со стола.
* * *Борисов и Ивашенко издали шли за Морозовым. Они видели, как его ввели в крепость.
Нельзя ли все же спасти?
— Когда его выведут из крепости, тогда и отбить, — сказал Ивашенко, — в городе это невозможно, а здесь...
Борисов не ответил, он понимал, как мало надежды.
— Понаблюдаем за крепостью, может, и увидим Морозова, — сказал он. Они спрятались в кусты.
Крепость стояла среди берез, кленов, ив. Едва распускалась листва, но все же можно было в кустах найти пристанище. С моря прилетела туча, пролилась весенним дождем, и снова выглянуло солнце. От штанов и рубах Борисова и Ивашенко шел пар. Они молча сидели в кустах, и каждый думал о своем.
Борисов думал о том, что напрасно отпустил Морозова; он ведь знал его горячность. Надо было пойти самому или втроем. Все равно в кофейне ни черта не получилось.
Он вспомнил, как летел с Морозовым первый раз на фотографирование. Как часто они ускользали от опасности... Нет, не умеют они воевать на земле...
Он закурил эрзацсигарету, купленную в кофейне пани Зоси. У сигареты был противный вкус. Чем-то он напоминал «Букет летнего сада», они курили его в давние блокадные времена. А, может, Коля и выберется? Но он отогнал от себя эту утешительную ложь. Нет, всё было кончено...
— Не пустил меня командир, — сказал Ивашенко, — а я бы не засыпался; я счастливый, — добавил он грустно.
Они сидели в кустах и курили.
* * *Расстрелять русского капитана поручили двум солдатам. Один был пожилой, лет шестидесяти, рабочий с кораблестроительного завода, вышедший на пенсию и призванный по последнему набору. Другой — школьник, сын врача из маленького городка в Померании.
Гарнизон уходил, получил категорический приказ отступить как можно скорее, и офицеры, быть может, не вспомнили бы о русском капитане, если бы не оберст. Его команду мобилизовали на срочную работу — сборы и отправку хозяйства гарнизона, и расстрелять Морозова поручили двум солдатам, которых, по мнению фельдфебеля, трудно было к чему-либо толком приспособить.
— Ребята, — сказал фельдфебель, — вам поручается отправить на тот свет одного русского капитана. Работа легкая, не то что подносить ящики со снарядами. Сделайте это за крепостью на огородах, чтобы далеко не таскаться.
Солдаты стояли смирно и молчали.
— Не забудьте лопату. И пошевеливайте задом. Пусть этот русский сам себе выроет вечную квартиру. Сидит он в сарае у канцелярии.
Когда отперли дверь сарая, Морозов сидел на полу и смотрел сквозь щель в стене. Перед его глазами вдали тянулся к небу огромный ствол старого дуба. С крыши спорхнул голубь и стал клевать в черной земле зернышки рассыпанного овса. Поклевал и улетел. И Морозову мучительно захотелось оказаться там, на высоте трех тысяч метров, и сбрасывать бомбы на крепость, на этот сарай, одну, другую, сотую, чтобы ничего на земле... Чтобы все в пыль... Потом забарабанил короткий тихий дождь, и туча быстро уплыла на юг.
Морозов вспомнил, как он в детстве был с отцом в поле. Отец косил, и вдруг пошел сильный дождь. Они забрались в свежее сено, и он спросил: а что, если ударит гром и убьет их или загорится сено, и отец сказал, что ударяет не гром, а молния. Они лежали в высоком стожке. В сене было сухо, жарко и, несмотря на дождь, стрекотали кузнечики. Он и сейчас, казалось, вдыхал этот запах сухой, только что высохшей травы, в которой пестрела белая и розовая кашка.
Сколько он будет находиться здесь и когда за ним придут? С руки его сняли часы, и ему казалось, что прошло много времени.