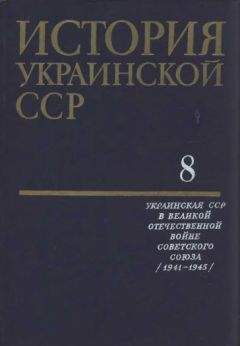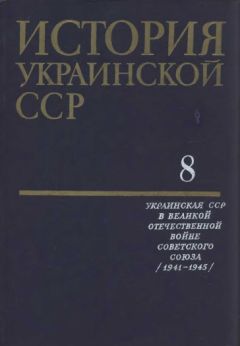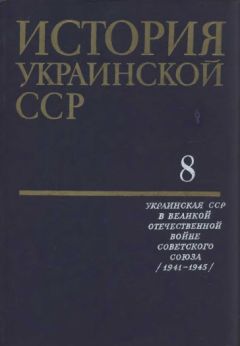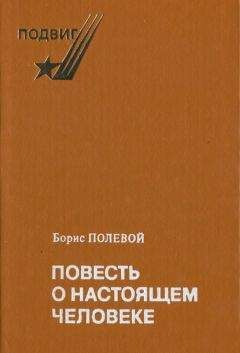Николай Бирюков - Чайка
Федя подумал: будь среди этих девушек Катя, он сейчас выпрыгнул бы в окно, пошел вместе с ними и от всей души подтянул бы:
Гляжу на тропиночку,
К тебе сердце вроется.
Тетя Нюша встала.
— Поди, кто из наших! Выйду погляжу. Вернулась она не скоро.
— Наши. Сразу признала — горластые. До ворот проводила. Не отпускали все. Ты, что же, кончил? — спросила она, увидев, что Федя задумчиво смотрит в окно.
— Кончил.
— Тогда я пойду. Дай бог, к середке ночи до дому добраться.
В дверях она обернулась.
— Будешь звонить к нам, назовись — не обману. Только имя не говори, много у нас имен-то всяких, путаются в голове. А ты скажи: я, мол, тетя Нюша, механик голый, с тракторной станции. Тогда не спутаю.
Федя рассмеялся.
Оставшись один, он опять взял книгу, но читать не мог: мысли были полны Катей. Он видел лишь ее одну — смеющуюся, голубоглазую. И ему казалось, что он даже голос ее слышит.
— Бывают же такие девушки! — прошептал он. Часы пробили двенадцать.
Федя закрыл глаза, но спать совсем не хотелось. Закурив, он подошел к окну. Пахло сосной, лес был рядом. Оттуда неслись звуки гармони и голоса парней и девушек:
Ты ли меня, я ли тебя
Из кувшина,
Ты ли меня, я ли тебя
Из ведра.
«Пойду-ка попою с ними», — решил Федя.
Он выпрыгнул в окно и быстро пошел к воротам.
Ты ли меня, я ли тебя
Иссушила,
Ты ли меня, я ли тебя
Извела…
— с каждым его шагом приближалась песня.
Смолистый воздух кружил голову. Дойдя до опушки леса, Федя раздумал итти к парням и девушкам. В груди переливалась легкая, никогда прежде не испытанная теплота. Хотелось удержать ее в себе как можно дольше.
Лес шумел спокойно, ласково. Мох под ногами вдавливался беззвучно, точно вата.
И Федя вдруг понял, что переполняло его грудь, искало выхода. Лицо стало горячим-горячим, в висках застучало. Он стоял посреди леса, большой, сильный, растерянный, и счастливо шептал:
— Катюша… радость ты моя…
Глава девятая
У иных людей одна пора жизни переходит в другую легко и плавно, как бутон в цветок, свободно распускающий все свои лепесточки, и жизнь ни на минуту не перестает ощущаться единым целым: в прошлом — ее корни, в настоящем — цветение.
Но бывает и так, что день перелома — глубокий ров: все, что осталось в прошлом, мертвеет, отодвигается в глубокую даль и смотрит на тебя оттуда, точно из другого века, и тебе кажется, что жил по ту сторону переломного дня не ты, а кто-то другой, только внешне похожий на тебя.
Так было и с Марусей. Больше недели ходила она по полям. Сначала катино поручение вызывало у нее усмешку, и она выполняла его хотя и добросовестно, но с безразличием, точно автомат; потом на душе появилась не ясная ей самой встревоженность, а в прошлое воскресенье — это было после встречи с Женей Омельченко — она пришла домой и до рассвета не сомкнула глаз. Все рассказанное девчатами переплеталось в ее мыслях с тем, про что говорила ей Катя в тот праздничный день. И в эту ночь у Маруси появилось и стало крепнуть такое ощущение, будто она проспала много лет, а сейчас проснулась и увидела, что настоящая жизнь шла мимо нее. И была эта жизнь такой необозримо широкой, было в ней столько светлого и волнующего, что ее, марусино, существование, в котором самым большим событием была неудавшаяся любовь, показалось ей до обидного бесцветным, маленьким, ненужным. И ей стыдно стало за себя.
К остальным звеньям после этой ночи она приходила робея. Расспрашивала их и настороженно ждала: а вдруг и ее спросят: «А ты как живешь, Маруся? Что ты сделала в жизни? Какие у тебя планы?»
Но, к ее счастью, все обходилось благополучно. Девушки встречали ее радушно, показывали свой лен, приглашали поработать вместе. Особенно хорошо было ей среди льноводок Любы Травкиной. Она проработала с ними весь день и охотно согласилась на предложение звеньевой заночевать вместе в поле. Люба положила ее рядом с собой и, тесно прильнув, спросила:
— Ты, конечно, комсомолка, Маня?
— Нет, — ответила она и покраснела: ей почудилось, что Люба немножко отодвинулась и, наверное, только из вежливости не отняла свою руку. — Но я подала заявление. Не знаю, может быть, примут.
И вот теперь Маруся стояла у дверей катиного кабинета и в тревоге ждала решения своей судьбы.
Члены бюро, и особенно Зоя и Саша, очень придирчиво расспрашивали, почему она оказалась вне рядов комсомола.
И когда, чувствуя на лице жар от стыда, она ответила им, как тогда Кате: «Скучно было», — ей не поверили. Она заметила это по настороженности, проступившей на лицах членов бюро. А Катя все время молчала, ни одного вопроса не задала и, встречаясь с ней глазами, отводила свои в сторону. Может быть, под влиянием настороженности товарищей и она переменила свое мнение, решив, что для той, которая однажды равнодушно рассталась с комсомольским билетом, дверь в комсомол должна быть закрыта навсегда. Конечно, если они не утвердят, правда будет на их стороне, но и на ее стороне тоже правда, своя. До ее слуха доносились громкие голоса спорящих. Наконец все смолкли и ее позвали в кабинет. Маруся перешагнула порог и дальше не пошла: ноги точно приросли к полу — не двигались. Все молча смотрели на нее.
— Подойди сюда, Маруся. — Катя приподнялась из-за стола. Маруся побледнела, неуверенно сделала шаг от порога, еще один…
Катя от имени райкома поздравила ее с возвращением в комсомольскую семью и стала говорить о том, какую ответственную роль отводит партия комсомолу в великой перестройке всей жизни. Но Маруся уже не улавливала смысла слов. Шум, схожий с шумом зеленого леса, поплыл в ее голове: «Утвердили! Не оттолкнули».
Катя крепко пожала ей руку. Маруся знала — так налагается; она тоже что-то должна сказать, и ей хотелось говорить: дать клятву в том, что она будет неплохой комсомолкой, рассказать о том большом празднике, который был сейчас у нее на душе.
— Товарищи… — Она взглянула на Катю.
Катя улыбнулась, и Маруся поняла, что секретарь догадывается о ее состоянии и радуется вместе с ней.
— Товарищ секретарь! — К глазам подступили слезы. Катя стояла рядом, такая простая, близкая. Маруся порывисто обняла ее, поцеловала и, смутившись еще больше, выбежала из кабинета.
У входных дверей столкнулась с Федей и, как близкому другу, сказала:
— Здравствуйте, товарищ!
На улице было большое оживление, обычное для выходного дня. Мимо палисадника шли нарядно одетые люди, — вероятно, на Волгу. Маруся видела их сквозь радостные слезы, как в тумане. Ей хотелось окликнуть их, подбежать к ним и, обнимая каждого, всем сообщить, что теперь она комсомолка, что той Маруси Кулагиной, которая еще совсем недавно равнодушно отворачивалась от всех и всего, нет и никогда больше не будет — никогда! Ее место в жизни заняла совсем другая Маруся Кулагина, понявшая всей душой, что в жизни много и дружбы, и любви, и солнца. Теперь ей стало, физически близким и родным это святое понятие — родина, вбиравшее в себя все: и жизнь, и чувства, и мысли людей. Необъятная, она была во всем, что окружало ее, Марусю, а в то же время как бы целиком помещалась в ее душе.
С глубокого безоблачного неба солнце светило ей прямо в лицо. Слезы ползли по щекам, но. Маруся их не замечала.
«Здравствуй, долго от меня ускользавшая, настоящая, большая жизнь!» — растроганно прошептала она, сбегая с крыльца.
По тротуару мимо калитки шли две девушки с большими букетами цветов. Они переглянулись, и одна из них сказала:
— Влюбилась, наверное, девка.
Маруся засмеялась.
«Правильно, девчата, влюбилась, — в жизнь!» — чуть было не крикнула она им вдогонку, но удержалась, почувствовав, что ей вовсе не хочется ни с кем говорить: хочется побыть одной, может быть выплакаться от радости.
— Внимание! — раздалось из радиорупора, стоявшего в окне над крыльцом. Голос диктора прозвучал взволнованно и сурово, но Маруся не уловила второго оттенка и поэтому не удивилась: все теперь ей казалось взволнованным.
Она быстро, почти бегом, пошла по тротуару.
— Говорит Москва! Одновременно работают все радиостанции Советского Союза, — несся вдогонку: ей голос диктора.
Возле Дома Советов на тротуарам и посреди дороги останавливались девушки, парни, пожилые люди.
Из ворот дома, мимо окон которого проходила Маруся, вышла седая женщина и, что-то сказав, побежала к Дому Советов.
Дойдя до электростанции, Кулагина опять оглянулась, пораженная тишиной. Улица перед Домом Советов была вся запружена народом, но, кроме неясных звуков радио, ничего не было слышно. Поколебавшись, Маруся повернула обратно. С каждым шагом она шла все быстрее, подгоняемая усиливавшимся предчувствием чего-то недоброго.