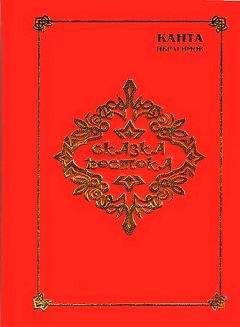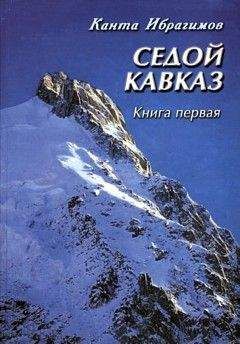Канта Ибрагимов - Учитель истории
— А почему Вы не женились, не заимели детей? — не сдержался Малхаз от этого вопроса.
— По молодости об этом и не думал, а позже, вроде здоров, вся медицина есть, но ни одна женщина от меня не беременеет. А всяких искусственных премудростей не хочу. Вот и иссякнет ветвь Мнихов.
— На самом деле — ветвь-то Мнихов — тысячу лет назад иссякла. Разве не так?
— Так, — опустил голову Безингер. — И более того, получается, я пришел на свою исконную родину, иду к своей прародительнице.
— А сундук?
— Если честно, о нем я все меньше и меньше думаю.
— Выкиньте перстень! — резко сказал Шамсадов.
Безингер долго смотрел на свою руку, и тяжело вздохнув: — Пошли.
По карте близко, а в горах расстояние обманчиво, многократно возрастает, и прямо не пройти, всюду ущелья, неприступные перевалы, речки вроде маленькие, а ледяные, стремительные, ногу не так сунешь — унесут. И это не главное — мин боишься, всюду на тропах российские растяжки, и благо, Шамсадов эти дела в свое время познал.
— Я устал, не могу, — не в первый раз ноет Безингер.
— А каково было Ане — 1050 лет?!
Весь путь было сыро, туманно, моросил противный дождь, обозрения нет — еле ближайшую гору видно.
Две ночи они спали в палатке, измучились, и все равно двадцать второго марта, совершив с утра последний небольшой марш-бросок, Малхаз остановился у совсем маленького, еле бьющего из-под склона родника.
— Это и есть Бойна-тIехьа — каменистая кряжа гор.
— Какая же она каменистая? Всюду кустарник, лес.
— А Вы приглядитесь: какой лес здесь, а какой там. Там осадочный грунт, почвы богатые, лес соответствующий. А здесь когда-то был вулкан, и порода извержения. Во времена Аны здесь, наверняка была очень слабая растительность. А за тысячу лет уже образовался кой-какой плодородный грунт, и на нем хоть и слабая, да густая растительность, и меж нее, должен быть вход… Правда, за эту тысячу лет он, скорее всего, тоже зарос, замуровался.
— В прошлый раз мы здесь были, — разочарованно и сердито сказал Безингер. — Здесь и вправду самый высокий радиационный фон. И хоть гора и крутая, и огромная, пятьдесят человек каждый метр ощупывали — бесполезно. Все это вранье! … Ха-ха-ха! Какой я идиот, какой я дурак! Это твои хитрые карие глаза, это твоя «детская», наивная улыбка, эти твои картины навели на меня наваждение, гипноз. Ты дьявол, ты угорь, ты настоящий чернявый черт. Ты в бою один выжил, ты единственный из моего лондонского склепа сбежал, ты один со страшного острова спасся. И это не все: твое сердце, а я в медицине соображаю, три года на медфаке учился; с таким не живут, а твой рубец, как у собаки зажил.
— Улыбаться надо чаще! — что и делает Малхаз.
— Что? Ты? … Да я, — вышел из себя Безингер, вдруг выхватил маленький блестящий пистолет. — Я тебя убью, я тебя пристрелю, как собаку. Больше ты меня не проведешь! — и он, схватив за грудки маленького Малхаза, навел на его, все еще улыбающееся лицо холодный пистолет.
— Тс-с-с! — как ни в чем не бывало, приставил Малхаз к насмешливым губам палец. — Прислушайтесь, не шумите.
— Чего? Что «прислушайтесь»? … Ветер в вершинах завыл.
— В том-то и дело… Ана нас ждет. Туман скоро рассеется, к обеду солнце покажется. Только сегодня, раз в году, оно сюда заглянет, по отражению вход в пещеру покажет.
— От чего оно отразится, от этого родника?
— У нас есть зеркальце, Ваши очки, часы, да все, что блестит, все сгодится.
Безингер отступился, пряча пистолет, сел, покосился на Малхаза, да взгляд не такой уж и злой, скорее озадаченный.
А Шамсадов тем временем стал снимать верхнюю одежду, даже разулся:
—Вам тоже надо свершить омовение.
— Да пошел ты, — сплюнул Безингер.
— Не оскверняйте наши горы, и делайте как я, как велела Ана — «чистое сердце, добрая воля, с душой!»… А иначе, Ана с Вами и меня не подпустит.
— Да пошел ты, — вновь плюнул Безингер.
С оголенными ногами, с подвернутыми рукавами, Шамсадов встал, выпрямился во весь свой незавидный рост; уже не улыбался.
— Вообще-то, по кавказской традиции, Вы три дня гость. Однако, пора некоторые традиции пересмотреть… Убирайтесь. Вон отсюда, пока я еще добр.
— Что? Что ты сказал, мелюзга? — Безингер вскочил, вновь выхватил пистолет, навел, но еще не нажимал курок.
— Я не знаю, кто Вы — Безингер или Мних, или еще кто? Зато Вы знаете, кто я. Я учитель истории, и историю знаю и помню, — тут он вновь улыбнулся, да не совсем — тень в уголках губ. — В Вашем пистолете бойка уже нет, перстень от отравы освободился, прибор ночного видения — мина, ночью тю-тю, ручка — тоже там. Так что делайте, как прошу, иль без шуток уходите.
— Негодяй! — крикнул Безингер, и даже не нажав курок, бросил в Шамсадова пистолет. — Я с тобой еще разберусь, посмотришь, — волоча за собой рюкзак, он стал уходить, и уже преодолевал перевал, как сквозь туманность выглянул золотой солнечный диск, сразу стало совсем светло, весело, по-весеннему празднично… Безингер остановился, очень долго смотрел на солнце, потом, опустив голову, так же долго о чем-то думал. Наконец, с трудом стянул с пальца перстень, кинул его с силой, и обернувшись, во весь голос на чеченском крикнул:
— Малхаз, Малхаз, ты простишь меня?!
— Бог простит! — закричал в ответ учитель истории, и махая рукой. — Бегите, пора, Ана ждет нас.
Пока Шамсадов доставал зеркальце, Безингер тоже совершил тщательное омовение. В надежде они стали на колени перед своим простеньким прибором. Небо совсем прояснилось: голубое, нежное, чистое. А вокруг зеркальца молоденькая, совсем худенькая, еще не окрепшая, зелененькая травка кружевной бахромой склонилась, обрамила блестящую гладь; и тут же неугомонный муравей забрался на стекло, побродил, двигая усиками — все чисто; и только он сошел — ровно в полдень зеркало вспыхнуло!
— Ничего не видно! Зайчик не доходит! — запаниковал Безингер.
— И не надо, — улыбается Малхаз, — Встаньте напротив отражения, вот так, — и он в ту сторону направил палку. — А теперь смотрим, как в ружье, тьфу, не доброе; как в трубу. Смотрите, Зембрия, — невольно это вырвалось у учителя истории, — вон, та цветущая желтая алыча!
— Боже! Точно, золотоволосая Ана! Ана-а-а!
Не просто они туда забирались. Густые заросли колючего терна, ежевики, кроваво-красного дерна и ломоноса. И все по крутому, мокрому, скользкому склону, на невыносимой высоте — голова кружится, вниз смотреть — страх. К удивлению Малхаза, Безингер ни разу не заныл, не скулил; правда, отставал, да сопя с одышкой карабкался вслед. Выдохлись, вконец измотались, руки и лица сплошь повыцарапали, пока палка вдруг не провалилась.
Тучный Безингер еле-еле пролез в лаз. А пещера огромная, сухая, и тихо в ней — жуть, аж в уши давит. И воздух, не то что спертый иль смердящий, его мало, задыхаешься, и он гнетущ, как мрак тысячелетия. Хоть и ярок мощный луч фонаря, а ощущения света нет, от кривых массивных каменных стен — тени монстров ожили, задвигались, вот-вот набросятся, задушат, съедят.
Ухватившись друг за друга, из страха, все время дергая лучом, они, не шли, а чуточку, бочком, косясь на выход, еле-еле переминали дрожащие ноги. А когда за едва заметным углублением дневной свет из виду пропал, встали, еще долго боялись сделать шаг вперед, и назад не хотелось.
— Пошли, — первым в подземелье заговорил Безингер; часто сопя, тронулся вперед, и его шаги громыхнули гулким эхом, словно поступь великана в ночи. Испугавшись одиночества, Шамсадов бросился вслед, за светом. А Безингер более не останавливался, ровно шел вперед. Наконец, огромная пустошь, сосульки висят, заблестели пришельцам, и за ней выемка.
— Боже! — простонал впереди идущий Безингер, как подкошенный упал на колени, огромная спина его затряслась от рыданий.
Шамсадов близко не подходил, боялся. У стены огромный сундук, в свете фонаря аж блестит, светится. Видать, он был обит тонким, изящным деревом, но дерево сотлело, лишь оставило пыль, в которой зацементели едва различимые останки, и лишь два черепа, совсем рядом, сохранились; и от одного, чуть заметный бугорок — некогда пышные волосы Аны — пепел неземной…
Малхаз и слезу не пустил, он не мог справиться со своей подавленностью, даже некой брезгливостью и страхом перед этими мощами. А Безингер, напротив, был очень спокоен, сосредоточен, серьезен. К сундуку он и не притронулся, а все фонариком освещал с разных позиций остатки скелетов, археологической кисточкой что-то очищал, и вызвав у учителя истории раздражение, перешедшее в улыбку, даже делал в блокноте какие-то записи и пометки.
— Так, — посмотрел Безингер на часы, — сегодня ничего не успеем, да и устали… Заночуем здесь.
— Нет-нет, Вы что?! — впервые прорезался голос у Шамсадова.
— Что ты вопишь? Ана здесь годы, тысячелетия в одиночестве провела.
Малхаз привел массу аргументов, чтобы уйти. Безингер и не слушал, все отвергал.