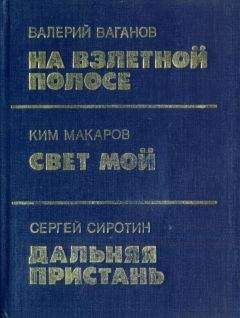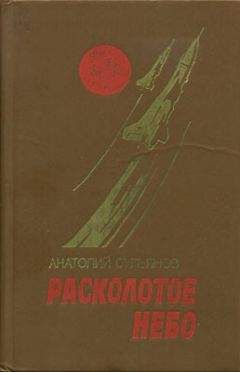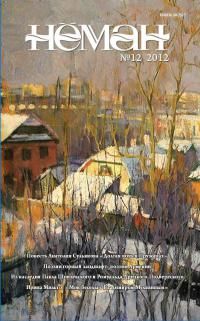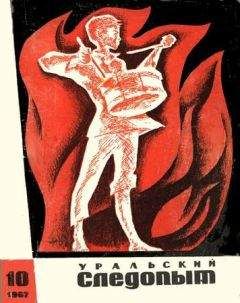Виктор Костевич - Подвиг Севастополя 1942. Готенланд
Это было первым симптомом. Петер с каждым днем становился всё мрачнее, ни с кем не говорил, ничего не успевал, опаздывал на построения. Его движения замедлились, в глазах поселились страх и тоска. Что-то должно было произойти, и оно произошло. Снова в конце дня, на исходе второй недели, во время штурма проволочных заграждений под пулеметным огнем. Брандт приказал рывком преодолеть небольшое пространство, отделявшее нас от неглубокой канавы, в которой можно было залечь и отдышаться. Улучив момент, когда огонь откатился в сторону, мы перебежали открытый участок и тяжело плюхнулись на песчаное дно. И уже там обнаружили отсутствие Петера. Обернувшись, увидели, что он стоит во весь рост, бросив винтовку на землю, и кричит непонятно что. Пулемет испуганно смолк. Брандт поднялся, подошел к Петеру и что-то ему сказал. Тот только покрутил головой. Брандт поискал меня и Дидье глазами, мы подбежали, но помочь не смогли, Петер попросту нас не увидел. Напрасно Брандт приказывал ему поднять оружие, орал, убеждал, спрашивал: «Ты понимаешь, что тебе конец, парень?» Всё было напрасно. Петер никого и ничего не слышал. Он кричал, проклинал, плакал. Узнавший об инциденте Шёнер, казалось, был удовлетворен таким исходом. Думается, его логика была следующей: лучше сразу кого-нибудь примерно наказать, чтоб другим неповадно было, чем дожидаться, когда придется наказывать – или отсеивать – сразу нескольких. Петер сломался вовремя.
Для отказников, которых называли «пацифистами», в лагере имелись особые деревянные клетки. Сидеть в них приходилось скрючившись, сверху палило солнце, еды не давали. Нам показали клетки в первый же день, но до Петера они пустовали.
Его случай совпал по времени еще с одним – мы видели, как вели солдата второй роты, судя по всему, не новобранца, который тоже отказался выполнить приказ и тоже бросил оружие наземь. Как и Петера, его поместили в клетку, но он ночью исхитрился удавиться. Петер не смог или не захотел, и на следующий вечер, возвращаясь в лагерь, мы проходили с песней мимо, стараясь не смотреть в его сторону.
* * *На каждом утреннем построении нам сообщали сводки с фронта. В субботу, после фанфар, по радио прозвучала новость о начале наступления на Керченском полуострове. На следующий день стало ясно, что туда нам уже не поспеть, обойдутся без нас. Вечером, несмотря на усталость, возникли споры: будет ли наша армия после очистки восточной части Крыма сразу же переброшена на Кавказ или сначала покончит с Севастополем? И следовательно, где окажется наша дивизия и мы вместе с ней. Встал и другой вопрос: какой вариант подошел бы нам больше? Хайнц находил таковым севастопольский.
– Посудите сами, – рассуждал он, как всегда авторитетно. – Под Севастополем мы уже стоим, поэтому никуда идти не надо. Мы торчим там с прошлого года, так что терять нам нечего. Потеряем мы как раз, если уйдем, ведь худо-бедно обустроились. Когда его возьмем, упремся прямо в море и сможем передохнуть. А если переправимся на Таманский полуостров, – многие из нас уже усвоили новое географическое название, – придется наступать в глубь суши, быть может, до самого Каспия, и черт знает, когда всё это кончится. В лучшем случае пойдем на юг, вдоль моря. А горы на Кавказе повыше крымских. Может, кто из вас и альпинист, но лично я предпочитаю равнину.
Оппоненты его возражали:
– Севастополь – сильнейшая в мире крепость.
– Не сильнее Сингапура, а японцы Сингапуром овладели. Мы хуже?
– Так там ведь были британцы.
– А британцы, что, хуже русских?
Оказавшийся рядом Брандт заметил:
– Когда я слушаю Дидье, мне кажется, что он бывал где угодно, только не под Севастополем. Но я знаю, что он там был, и поэтому удивляюсь.
– Я по натуре своей домосед и не люблю слишком часто менять место жительства.
Брандт ухмыльнулся.
– Ну-ну.
В лагере нам оставалось пробыть последние несколько дней.
Путешествие с Грубером. Борисфенские музы
Флавио Росси
30 апреля – 1 мая 1942 года
Клаус Грубер оказался невысоким крепышом лет тридцати пяти, с густыми темными волосами и умным пытливым взором из-под очков в дорогой металлической оправе. Его выправка была военной, а рукопожатие твердым.
– Очень рад, – сказал он, – очень рад. Мне как раз не хватало попутчика, вам, полагаю, тоже. К тому же я неплохо знаю страну, а вы здесь впервые.
Офицерский мундир сидел на нем получше, чем на некоторых кадровых служаках. На плечах поблескивали разноцветными нитями погоны зондерфюрера группы В, что соответствовало чину армейского майора. Я не знал таких тонкостей, но он мимоходом просветил меня на этот счет, небрежно махнув рукой – какая, мол, ерунда.
Мы выпили кофе в компании капитана Хербста и очаровательной фрау Анны, после чего Хербст отправился на службу, а фрау Анна перешла в другую комнату. Раньше это помещение занимали ее соседи-евреи, тогда как в третьей комнате обитала семья партийного активиста – но, как объяснил мне Хербст, в прошлом году евреев выселили, активист исчез, и теперь Анна Владимировна занимала всю квартиру, прежде представлявшую, по ее рассказам, настоящий советский содом, так называемую «коммуналку», жизнь в которой для образованного человека совершенно невыносима.
Грубер достал из портфеля карту и объяснил мне будущий маршрут. Сначала мы должны были ехать на восток, до большого города на Днепре, где нам уже завтра предстояло принять участие в торжествах по случаю Дня труда, а затем оставаться еще несколько дней, разъезжая по окрестностям и попутно следя за развитием дел на фронте. Если ничего не случится на востоке, нам следовало направиться еще в один город, ниже по течению, где Грубер собирался прочесть ряд лекций перед местной общественностью, а мне рекомендовал посетить колоссальную речную плотину, взорванную русскими при отступлении и являвшую собою ныне великолепный пример азиатского варварства большевиков («К тому же там замечательный пейзаж»). И уже оттуда, через так называемый Перекоп, въехать в Крым, занятый одиннадцатой германской армией с приданными ей румынскими дивизиями.
– Вам будет интересно побывать и на празднике, и на лекциях, – заверил меня Грубер. – Составите представление о здешней, – он усмехнулся, – элите. Весьма поучительно. Заодно попрактикуетесь в русском, вы ведь его изучали? Кстати, я слышал о вашей необыкновенной способности точно воспроизводить любую фразу на любом языке.
Его осведомленность меня насторожила. О чем он слышал еще – и главное, от кого? Неужто Тарди выслал им мою подробную характеристику – или они сами собирали информацию? И, спрашивается, зачем? Просто так, на всякий случай? И какое ведомство всем этим занималось?
Я ответил:
– Да, что есть, то есть. Этакий попугайский талант. Причем совершенно не понимая смысла.
Он сказал что-то по-русски. Я повторил. Грубер рассмеялся. Вернувшаяся в комнату фрау Анна тоже произнесла несколько слов. Я повторил и их.
– А ви непогано розмовляєте українською мовою! – заметила она, явно обращаясь к мне.
– Что вы сказали? – растерялся я.
– То, что вы неплохо говорите по-украински, – объяснил Грубер.
– Я училась этому дольше, – заметила фрау Анна. – Иначе бы коммунисты не взяли меня на службу.
Я не понял, что она имела в виду.
Мы выпили еще по чашке кофе, простились с милой хозяйкой и, захватив мои вещи, спустились вниз, где нас дожидались «Мерседес» Грубера и водитель – ефрейтор по имени Юрген, долговязый и простоватый с виду парень, судя по акценту и отдельным словечкам – баварец или австриец. Сам Грубер, кстати, был вюртембержцем и обитал перед войною в Штутгарте.
Мы выехали с обсаженного тополями двора, миновали оцепленную войсками и полицией станцию – туда под музыку и бодрый лай собак стекались новые толпы отъезжавших в рейх работников, – и вырулили на сравнительно широкую дорогу. «В добрый путь!» – сказал по-русски Грубер. Наше путешествие началось.
Зондерфюрер оказался интересным человеком. Возможно, чересчур разговорчивым, но на первых порах это не смущало, напротив, я получал от него массу полезных сведений.
Наш «Мерседес» почти без остановок катил по шоссе, обгоняя колонны грузовиков, танков, подразделения пехоты, вереницы повозок и пушки на конной тяге. Отобедав по пути, мы ближе к вечеру достигли цели – того самого большого города, о котором поутру говорил Грубер. Там мы неплохо поужинали в компании двух офицеров-пропагандистов, не злоупотребив, к моей радости, алкоголем, и разошлись по номерам в аккуратной военной гостинице. Я принял ванну и наконец-то, впервые за несколько дней, сумел по-людски отдохнуть. В одиночестве, уюте и имея достаточно времени на сон. От симпатичной девушки из гостиничной прислуги, уверенно и даже завлекательно застелившей мою постель, я откупился благодарной улыбкой, сопроводив ее парой советских и оккупационных бумажек, которыми располагал в изобилии. Полагаю, она оценила итальянскую галантность и бескорыстие.