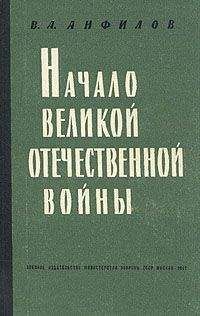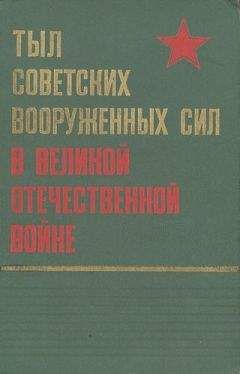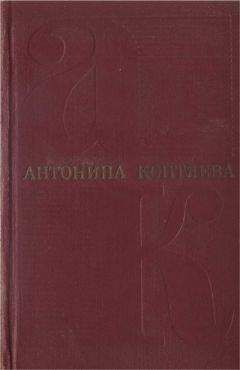Антонина Коптяева - Собрание сочинений. Т.3. Дружба
Она считала слабые толчки пульса, чуть наклонясь, рассматривала раненую. Интересное, красивое лицо и симпатичное, должно быть.
В это время и очнулась потревоженная Ольга.
С минуту женщины смотрели в глаза друг другу.
Еще на подступах к Сталинграду Ольга не раз думала об Аржанове. Возможная встреча с ним не пугала ее. Даже чуточку хотелось такой встречи. Пусть бы он убедился, что она тоже может работать. Ведь он, наверное, до сих пор убежден, что сыр-бор загорелся из-за Таврова. Но Ольга знала: что началось не из-за Бориса. Но теперь все у нее сложилось к лучшему, и никаких перемен в своей жизни она больше не желала.
Когда ее ранили, все мысли, чувства, заботы сразу исчезли, осталось лишь нестерпимое физическое страдание. И, ничего не сознавая, кроме этого страдания, она каждому, кто подходил к ней, говорила: «Помогите! Да помогите же!»
И вот боль и удушье покинули ее. Вместо того полнейший упадок сил и угнетенность такая, что все безразлично. Но рядом две женщины. Одна сидит близко-близко и держит Ольгу за руку. Врач, наверное. Больная устало опускает ресницы. Но та спрашивает:
— Как вы себя чувствуете?
— Сейчас я ей кофеин сделаю, Лариса Петровна.
«Лариса Петровна!» Сделав над собой усилие, Ольга открывает глаза.
— Вы Лариса Петровна Фирсова?
— Да. Откуда вы меня знаете?
Воспоминание об атаке на Мамаевом кургане, лицо Таврова, смерть мужа Ларисы и письмо к ней — все это, словно ослепительные вспышки, разгоняет туман в голове Ольги.
— Я вам писала, — тихо говорит она, слабо сжимая ладонью похолодевшую руку врача. — Я Ольга Строганова. Значит, Иван Иванович здесь? Вот как странно! Правда, странно? — С минуту она смотрит на Фирсову кротким взглядом умного, тяжело больного ребенка. — В сумке письмо мужу, Борису Таврову. Там номер полевой почты. Очень прошу, отправьте! О ранении не надо. Нет, надо. Напишите: легко ранена, поправляюсь, жду его. Он был школьным товарищем вашего мужа… Простите… Мы оба были потрясены.
59
«Теперь все устроится, как надо! — с безнадежностью сказала себе Варя, выходя из штольни операционной. — Два дня прошло с тех пор, как мы оперировали Ольгу Павловну, и до сих пор он не нашел времени поговорить со мной. Значит, все старое проснулось в нем… А на улице солнышко светит, даже глазам больно. Январь на исходе. Дни летят, работы в операционной — без конца. Удивительно, как могут существовать в такое время дополнительные душевные нагрузки, вроде никому не нужной любви!»
Солнце блестит на снегу, на льду, в разводьях свободной воды, сверкающих среди нагроможденных торосов! И повсюду через Волгу проторены дороги, дорожки. Как давным-давно, в предвесенний день на Севере. Солнце тоже смотрело в широкие, наконец-то оттаявшие окна, ласково пригревало спину и гладко причесанную голову Варвары, ложилось светлыми квадратами на сукно большого стола. Тогда шла сессия районного Совета. Иван Иванович должен был скоро вернуться из тайги, и все пело в душе Варвары. Она сидела и улыбалась своим мыслям, пока не ощутила пристальный взгляд Логунова. Платон, бывший секретарем райкома, смотрел на нее. Ей стало совестно за праздные мысли на деловом совещании, она невольно схитрила — улыбнулась и ему. «Дорогой Платон! Если бы ты знал, как я устала и как мне тяжело», — мысленно пожаловалась ему Варвара, шагая по береговой траншее-улице. Теперь тут можно шагать не сгибаясь, хотя на Тракторном все еще идут бои: не сдается там северная группировка, и в центре еще идет пальба.
— Варя! — окликнула у блиндажа Галиева.
Варвара даже вздрогнула от неожиданности, улыбнулась невесело.
— Ты чего такая? — спросила Галиева, входя следом за нею; подошла вплотную, взяла за плечи, встряхнула легонько. — Если Ольга Павловна у тебя на уме, то напрасно. У нее все думки о новом муже, как его, Таврове, что ли. Не успела глаза открыть — сразу о нем заладила.
— А Иван Иванович? — напомнила Варя.
— Он заходил к ней сегодня. О здоровье справился. Она до сей поры не знает, кто ее оперировал. Я хотела сказать, да передумала. Не все ли равно! Сколько народу прошло через его руки. Ему славы не прибудет, а для нее лишнее беспокойство. Она и так, наверно, в долгу себя чувствует.
— Ничего она не чувствует, — в сердцах сказала Варя, не сумев побороть женской досады, не раздеваясь, прилегла на нары, закинув за голову руки, долго молча смотрела в потолок. Потом промолвила: — Значит, заходил? Понятно!
— Что понятно? — отозвалась Галиева, надевая новую гимнастерку. — Посидел. Поговорили маленько. Все честь по чести. Похоже, она догадывается, кто ее оперировал. А может, Фирсова сказала. С Фирсовой-то они, оказывается, по письму знакомы.
— Вот как!
— Да. И Решетов тоже к ней заходил.
— И Решетов? Для нее, может быть, это «тоже». А для меня совсем нет!
— Брось, Варя! Сейчас радоваться надо. Пойдем хоть раз в красный уголок. Там артисты приехали, выступать будут.
— Не пойду я. Не до артистов мне.
* * *Иван Иванович, правда, заходил к Ольге. Она отнеслась к нему со сдержанной приветливостью. Настороженной неприязни, с какой она встречала его в больнице во время болезни на Каменушке, в помине не было. Но в своем тихом спокойствии она показалась ему еще более отчужденной. И он сам не испытал ничего похожего на вспышку того волнения, которое овладело им, когда Ольгу полумертвую принесли в госпиталь.
Вот она какая: на поле боя очутилась! Глядя на нее, Иван Иванович неожиданно подумал: «Тавров помог тебе найти трудовую дорогу. А я тебе жизнь спас! Ну что же, живи, работай, радуйся! Тяжко мне было отдать тебя другому, а теперь я верну ему тебя с гордостью».
Выходя из госпитального отделения, он сказал себе: «У меня теперь есть Варя — дорогой друг!» И еще он подумал: «Из Клетской Ольга попала сюда… А впрочем, корреспондентам нигде дороги не заказаны, даже в Сталинграде». Теперь он хорошо знал степь между Доном и Волгой, где был проведен маневр окружения. Самые мощные укрепления врага не устояли перед дружным натиском разгневанного народа. Иван Иванович шагал по узкой траншее к своему жилью, а в ушах его как будто звучала песня:
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная,
Священная война…
Пели эту песню и в заволжской пойме, когда он ездил на конференцию. То колкая осенняя крупа сыпалась с темного неба, то холодная изморось, и ехали в сумерках по оголенному лесу солдаты в мокрых новеньких шинелях, двигались танки и грозные пушки с длинными стволами.
«Мы и не знали ничего. Никто не догадывался о предстоящем наступлении, а оно уже шло, нарастало, надвигалось со всех концов страны».
От таких мыслей таяла горечь в душе Аржанова, взбаламученная было встречей с Ольгой, и гордость в самом деле охватила его. Гордость за свою страну, за свой народ, за солдат и генералов и за себя — гражданина этой великой страны.
— Вот самое большое счастье! — сказал он, переступив порог хатки, по-прежнему упрямо лепившейся к береговому бугру, и проходя в штоленку. — Это главное, а остальное устроится. Должно устроиться.
Занятый мыслями, Иван Иванович не ложился отдыхать, а ходил по крохотному подземелью, подсаживался к печурке, пошевеливая тлеющие уголья и головни. Глядя на бойкие язычки огня, лизавшие просмоленную щепу от разбитой лодки, он вспомнил черные клубы дыма, тяжело ворочавшиеся в небе над горящей нефтебазой, буйно игравшее на ветру ярко-красное пламя, потоками сплывавшее с берегового бугра и качавшееся, не затухая, на волжской стремнине. Сколько богатства народного пущено на ветер! Сколько горя надо изжить! Хирург сидел на чурбаке возле открытой печурки. Золотые искры от огня отражались в его глазах, но видел он теперь в своем раздумье Ларису Фирсову, которая недавно так властно царила в его душе. Потом точно надломилось это чувство, но, однако, вместо тоски и опустошенности возникло другое — светлое, доброе — Варенька!
На порожке подземелья неожиданно появилась могучая фигура Злобина.
— Вот беда! — сказал он, запыхавшись. — Почти совсем прекратились бомбежки, а сейчас проскочили двое разбойников… Сбросили бомбы. Половина на лед угодила, а одно попадание — опять в блиндаж наших медичек.
Иван Иванович схватил шинель, накидывая ее на плечи, глухо спросил:
— Варенька?
— Посчастливилось ей: только плечо разбито да ключица сломана.
Иван Иванович уже не слушал, опрометью выбегая из хатки…
60Она сидела в предоперационной в разрезанной солдатской рубашке, вобранной в короткую юбчонку. Черноволосая голова поникла, и точно от усталости ссутулена спина. Кровь медленно, как будто неохотно, стекала с багрово-синего плеча, ползла струйками по обнаженной нежной руке, капала на пол. Возле суетилась Галиева — развертывала бинт, торопясь наложить повязку.