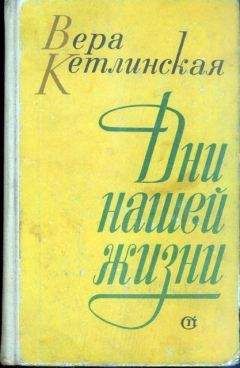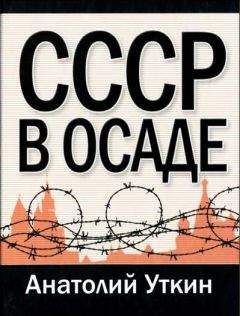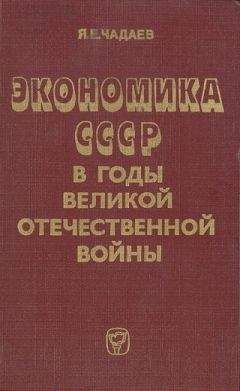Вера Кетлинская - В осаде
— Товарищи ленинградцы!
Марии говорили, что докладчик — прирождённый оратор, и сперва она с разочарованием слушала его однотонный, хрипловатый, даже немного вялый голос. Но после первых нескольких фраз голос как бы разогрелся и начал набирать силу и звучность. Новые интонации появлялись и затухали, чтобы возникнуть вновь с возрастающей выразительностью.
Докладчик говорил о войне, о блокаде, о сопротивлении, о немцах. Заговорив о немцах, он весь вскинулся; жгучая искра насмешки блеснула в его речи и отсветом пробежала по лицам слушателей. А докладчик рубанул воздух рукой и закричал:
— Просчитаются — и уже просчитались полностью!
В следующую минуту он скинул шапку и зажал её в кулаке, размахивая ею в ударных местах своей речи. Вялости и однотонности как не бывало. Его богатый оттенками, напористо-страстный голос завораживал.
Ещё минута — и шинель сброшена, презрительно откинута назад. Свободные и пылкие движения всего тела подкрепляют речь. В морозном зале оратору жарко, кажется, он сейчас рванёт ворот кителя… Листочки с записями, в которые он сначала заглядывал, разлетелись от стремительного взмаха руки. Оратор небрежно смахнул оставшиеся — ему уже не нужны были никакие тезисы, речь его складывалась свободно и прихотливо по вдохновению, иногда, должно быть, неожиданно для него самого. Факты и доказательства приходили сами, не извне, а от внутреннего убеждения оратора. Он искал не мелкого правдоподобия, а большой и конечной правды. Должно быть, он и не задумывался над тем, действительно ли немцы уже сегодня полны уныния, тоски и сознания обречённости. Он хотел видеть их такими и знал, что с точки зрения большой исторической правды они обречены — значит, будем смотреть на них, как на обречённых, как победители на побежденных!
Мария вспомнила слова Григорьевой о немцах, сказанные в новогодний вечер: «Разве немцы могут трезвыми в будущее заглядывать?» И всей душой поверила, что и Григорьева, и писатель правы.
— Не точно, — заметил кто-то за спиною Марии, когда докладчик привёл цифры военного потенциала немцев.
Мария с досадой передёрнула плечами. Точность цифр не имела для неё никакого значения. И неслыханные бедствия борьбы тоже перестали ощущаться ею. Оратор был точен в том основном, ради чего пришли сюда люди, — в настроении, в готовности сопротивляться, в уверенности, что победа будет завоёвана. Его речь всё чаще прерывалась рукоплесканиями — всеобщими, но необычно глухими: все руки были в перчатках и рукавицах. Рукоплескания сопровождались ещё более глухим топотом — слушатели топтали валенками, выражая своё одобрение и одновременно стараясь согреть застывшие ноги.
Ощущение победы реяло в промёрзшем зале. Победу предвещало всё — и само собрание, и речи выступавших учёных и художников, и прочитанные рассказы и стихи.
К трибуне вышел высокий седоволосый человек в армейской шинели. Его глубоко посаженные светлые глаза над вздёрнутым носом и все выражение его худого, с обтянутыми скулами, лица были странно молоды, и так же молодо звучал его несильный простуженный голос. И Марии почудилось, что все собравшиеся вместе с поэтом высказывают своё настроение.
Тряси же, фашист, головою,
Гляди, обалделый солдат,
Как море шумит грозовое,
Шумит грозовой Ленинград!
Но всё это только начало,
Та буря копилась давно,
То море уже закачалось,
Уже не утихнет оно.
Всей кровью фашистскою черной
Той бури врагам не залить, —
Так жги их, наш гром рукотворный,
Гроза ленинградской земли!
По окончании вечера Мария задержалась с друзьями у выхода. Никому не хотелось расходиться.
— Нет, к вам я пока не пойду, — сказала Мария в ответ на новое предложение Одинцова. — Может быть, потом, когда полегчает. Но я сегодня же вытащу свой проект санатория, помнишь? Чтоб не разучиться…
— Ну, смотри, — недовольно сказал Одинцов. — Сейчас тебя примут охотно, людей нету. А потом труднее будет. Так и останешься — на область работать.
— На область тоже интересно, и нужно, — гордо возразила Мария.
— Всё такая же!
— Не такая же, a ещё упрямее, — подхватила Мария. — Разве ты не заметил, что блокадная жизнь развивает упрямство?
К ним подошел ещё кто-то знакомый — Мария не узнавала лица и даже не распознала сразу, мужчина это или женщина. Из-под мехового полушубка виднелись ноги в ватных штанах и добротных, обшитых кожей валенках. Шапка-ушанка задорно сидела на коротких с проседью полосах. Резкие черты уже немолодого, тронутого морщинами, лица могли принадлежать мужчине, если бы их не смягчало какое-то неуловимое, материнское выражение глаз.
— Вы же знакомы, Муся, — напомнил Одинцов.
Вглядевшись, Мария узнала скульптора Анну Васильевну Извекову, давнюю приятельницу Одинцова. До войны Мария бывала с Одинцовым в её мастерской. Марии нравилась эта маленькая, энергичная, мужеподобная женщина, царившая в большой холодной комнате среди глыб камня и мокрой глины. В замызганном комбинезоне, со своими инструментами, напоминающими о труде мастерового, с силою чернорабочего в больших, испачканных глиною руках с короткими ногтями, Извекова работала много, неутомимо и размашисто. У нее всегда было несколько начатых работ — одна основная, другая — для отдыха. Она лепила широкими мазками, грубовато, с мужской суровостью и точностью. Людей она разглядывала жадно и пристально, не стесняясь, азартно отмечая и запоминая те черты и движения, которые могли ей пригодиться. Мария ей понравилась с первого взгляда, она даже хотела лепить её, а потом смутила Марию замечанием, что в ней «слишком много неопределившейся женственности»
— А вы остались здесь? Очень, очень рада, — сказала Извекова, тряхнув руку Марии и вглядываясь в её лицо пристальным, изучающим взглядом. — Я так и думала, что вы остались. И не случайно, а по убеждению.
— Почему?
— А кто его знает, почему! Понимать понимаю, а объяснить не мастерица. Было в вас и раньше что-то такое…
— От Жанны д'Арк, — подхватил Одинцов.
— Такое определение я уже слышала раз, в очень обидном, презрительном смысле.
— Значит, от дурака или от подлеца слышали, — веско бросила Извекова и мужским движением подтянула ремень, стягивавший её полушубок. — Ну, что, пошли или будем — мёрзнуть здесь?
У выхода стали прощаться. Извековой оказалось по пути с Марией, они зашагали в ногу, как два солдата, быстрым шагом, и Мария не чувствовала слабости, так хорошо у неё было на душе. Она рассказала Извековой свой разговор с новогодним прохожим об искусстве.
— Понимаю и вас, и его, — сказала Извекова. — А запечатлеть вот это наше страдание не могу… и не хочу. Художник один, друг мой большой, ходит сейчас как одержимый и рисует. Из окон домов, в булочных, даже на улице. И не только рисует, даже маслом пишет. Подышит на руки — и пишет. Я говорю: «Ведь помрёшь». А он говорит: «Помру, а это всё останется как свидетельство современника». Ну, в живописи, в рисунке — там другое. А мой материал — человек, его тело. Лепить вот таких, как мы? Истощённых, обтянутых кожей, с запавшими глазами? Дистрофиков?.. Страшно! Страшно. . и неверно. С профессиональной точки зрения это интересно. И легко. Очень скульптурно, что ли. А по содержанию — душа протестует. Мы вот ходим, пошатываемся, а я чувствую всех нас — всех! — здоровыми, могучими, прямо богатырями. Да богатыри и есть. А как это вылепить?
Помолчав, она сказала без тени сожаления:
— Материал у нас неподвижный статичный. Мёртвый. А выразить надо жизнь. Вот я лепила голову бойца. Бойца, идущего в бой, полного гнева и решимости уничтожить врага. Передать это можно, схватив выражение. Но ведь кроме этого чувства, охватившего бойца сейчас, мне нужно передать весь его душевный мир советского человека. Что он добр и великодушен, любит труд, детей, веселье, может быть, закат над рекой или утреннюю росу на лугах… А сейчас знаете, чего мне хочется больше всего? — перебила она самое себя. — Хочу вылепить фигуру девушки — здоровой, цветущей девушки с корзиной тяжёлых, сочных плодов. Яблоки — огромные, душистые. Виноград — в больших, тяжёлых гроздьях…
Мария сбоку покосилась на собеседницу, Извекова понимающе подмигнула:
— Думаете, бред голодного?. Мечты дистрофика?. Нет. Это — утверждение жизни, если хотите. Ведь всё это будет. Вернётся. Я и сейчас леплю всё здоровые, сильные фигуры. Только трудно стало большие фигуры лепить. В мастерской — морозище, глина стылая, в руках нет силы. И спина сдаёт — а нам спина нужна выносливая, рабочая… И всё-таки начала я фигуру партизанки. Молодой, крупной, налитой, упрямой.
— У меня есть знакомая девушка, она теперь партизанка, — сказала Мария. — Оля её зовут. Молоденькая, почти девочка ещё, и даже, пожалуй, хрупкая. Очень любит стихи. А пошла партизанить. Это, по-моему самое удивительное и примечательное.