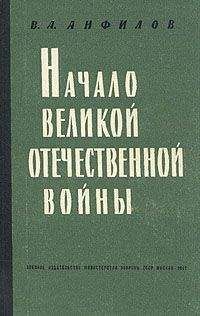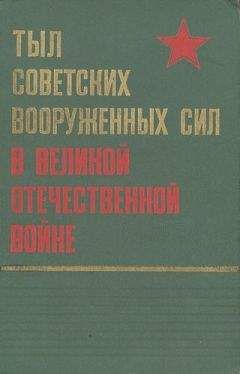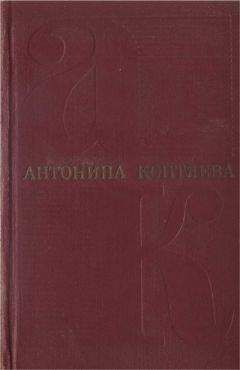Антонина Коптяева - Собрание сочинений. Т.3. Дружба
— Леня его очень любит. Целый день только и говорит: Иван Иванович да Иван Иванович. Будто он может мертвого вылечить. Это правда, мама?
— Нет, Алеша, мертвые… никогда не оживают!
46Фирсова открыла глаза, прислушалась. За тонкой перегородкой стонали и громко дышали раненые, а рядом сопел маленьким носиком Алеша. Когда отдых Ларисы совпадал с дежурством Мотина, она ночевала у сына.
«А я, мама, тоже солдат. Родной ты мой, как бы я хотела, чтобы тебе никогда не пришлось быть солдатом, чтобы на твою долю не досталось больше ни одной войны!»
Снова, как в первые дни знакомства, встает перед Ларисой образ Ивана Ивановича, желанного, душевно близкого. Да, она любила своего мужа. Очень любила, хотя иногда смотрела на него как на мальчика, он был только на два года старше ее. Ни одной ссоры не произошло между ними. Много забот было и трудностей: двое детей, учеба, работа, но все преодолевалось. Только когда задумывались о будущем, тревожила молодую женщину избранная мужем профессия — военный. Ведь в будущем не будет войн…
«Тогда я стану работать механиком, — серьезно говорил Алексей. — Не бойся, дорогая, мне и при коммунизме найдется дело».
Он отлично знал моторы, мог ездить и летать на чем угодно. Да, ему всегда нашлось бы дело.
Но вот не закончилась еще война, еще столько страшного впереди, а командира танковой бригады Алексея Фирсова уже нет на свете…
«И уже думает его жена о другом!» — мелькает у Ларисы горькая мысль.
«Да, думаю. Но разве я виновата в этом? Все зависящее от меня я сделала, чтобы не дать волю своему чувству, и помогла отойти Аржанову. Он не пошел бы к Варе, если бы я сама не оттолкнула его. И нельзя упрекнуть его за слишком скорое увлечение. Скорое ли? Если здесь каждый метр приравнивается к километру обычного фронта, то к чему же можно приравнять один день, проведенный в Сталинграде? Не стоят ли пять месяцев в этой обороне пяти лет мирного времени? Но почему на меня сваливается еще это несчастье? — вдруг бурно протестует душа Ларисы. — Казалось, уже убито, умерло все женское, кроме любви к сыну, а вот опять проснулось оно. Проснулось, когда уже поздно, когда ничего исправить нельзя…»
Алеша, повернув головенку, сонно вздохнул возле самого уха. С мучительной нежностью женщина вспомнила слова сына: «Я его тоже полюбил».
Да, только Аржанова и могла она полюбить после своего Алексея. Никто другой не смог бы завоевать ее привязанность. Хуже Фирсова она никогда не приняла бы, а лучше, наверно, невозможно. Только Ивану Ивановичу позволила бы она стать ее новым мужем и отцом для Алеши.
«Мы оба полюбили Аржанова». Она взяла теплую ручонку сына и тихонько поцеловала его крошечные пальчики.
На работу она вышла совсем измученная.
— Лариса, милочка! Мы наступаем, радоваться надо, а ты ходишь как неживая, — сказала ей Софья Шефер.
Не успев ответить, Лариса услышала шаги и голос Аржанова, невольно подтянулась:
— Устала, вот и настроение пониженное!
— Ой, не то! Мы все устали, а настроение — куда! У меня, по крайней мере, на двести пятьдесят процентов поднялось, а уж у Вареньки — прямо на тысячу.
Обе — и Софья и Лариса — разом оглянулись на Варвару, так и цветущую густо-розовым румянцем. Варвара держала в руках белый колпачок и собиралась надеть его на черноволосую голову.
— Почему она надевает докторскую шапочку? — вполголоса, но так, чтобы услышала Варвара, сказала Фирсова. В ее нервно напряженном голосе прозвучала неприязнь.
— Зачем ты? Что за предрассудки? — прошептала Софья укоризненно.
А Варя покраснела так, что и лоб, и остренький подбородок, и хорошенький ее носик сравнялись по цвету со щеками. Смущенно моргнув, она отложила в сторону колпак и, протянув узенькую руку, взяла марлевую косынку.
«Какая кошка проскочила между ними? — Софья проницательным взором окинула Ларису, уже готовую провалиться сквозь землю от стыда за свой некрасивый выпад. — Не Аржанов ли? — Вспомнился горячий август, госпиталь на подступах к Сталинграду, беленькая хатка в далеком степном дворике. Вечер наступал. На дорожке двора стояла полуодетая Лариса, а рядом с нею Аржанов, высокий, сильный, но робкий, как влюбленный школьник. — Неужели они поменялись ролями? Да, кажется, так оно и есть!»
Софья Шефер засучила рукава, подтягивая пояс халата, искоса взглянула на главного хирурга. Он тоже услышал слова Ларисы и, по-видимому, понял, в чем дело… Сочувствие его оказалось на стороне Вари. Он подошел к ней, и Софья заметила, что лицо Ларисы стало белее ее халата…
— Ну, коллега, — громко, шутливо и ласково заговорил доктор, обращаясь к медицинской сестре, — согласны вы быть сегодня моим ассистентом?
Варя кивнула молча, лишь посмотрела на него, но что это был за взгляд! Даже у Софьи Шефер, бывшей целиком на стороне Ларисы, не хватило бы духу осудить девушку.
«В конце концов, Аржанов свободный человек, Варенька тоже, и напрасно Фирсова позволила себе такую бестактность. Все мы фронтовые медики, и совершенно безразлично, кто в какой шапочке работает».
47В подвале было холодно, дым выедал глаза. Отодвинув с губ заиндевелый шарф, сделанный из половины женского пухового платка, Курт Хассе направился в дальний угол, где виднелся огонек… Свет карманного фонаря падает на лицо безумного. В куче соломы — дети. Да полно, дети ли? Как же тогда выглядят старики?! Курт вспомнил прехорошеньких русских и украинских девочек, до которых был такой охотник доктор Клюге и его отец — генерал Хассе, называвший их дарами войны. А здесь они ужасны. Уже застывший мертвец лежит поперек кровати. Видно, собирался встать, но не хватило сил… Теперь ему не о чем больше хлопотать.
— Мирное население! — вскричал Курт Хассе. — Такое мирное население хуже чумы — сплошная зараза! Пару гранат на всех…
— Пойдемте отсюда, — сказал Макс Дрексель. — Они сами погибают с голоду.
— Они переживут нас! — изрек Курт. — И у них есть жратва.
С этими словами он предстал перед крохотным костерчиком, разложенным на полу, в нише под сводами подвала. Женщина с ребенком лет пяти на руках сидела у огня, помешивала ложкой в банке, где что-то варилось. Это была та красавица степнячка, к которой заходили летом Иван Иванович и Хижняк после переправы через Дон.
При виде фашиста прозрачное, страдальчески нахмуренное лицо малыша сморщилось, послышался хриплый больной плач. Ударом ноги Курт опрокинул банку, посветил на зашипевшие головни: кусок чисто выскобленной шкуры не то бычьей, не то конской, две картофелины да с горстку зерен пшеницы… Курт наклонился, подобрал горячие полусырые картофелины.
— У них есть зерно! — обратился он к солдатам. — Искать!
Повторять приказание не потребовалось. Свет ручных фонариков зашарил по всем углам.
— У нас уже все забрали! Давно все забрали, — твердила женщина, которая только что сидела у огня. Она передала живой сверток в лоскутном одеяле двум девочкам не старше семи и восьми лет и теперь стояла, закрывая собою детишек.
Пуховый платок сбился с ее лаково-черных волос, стянутых на затылке в тугой узел. Она не поправляла его, может быть, боясь привлечь к нему внимание. Но зато ее черные глаза, огромные на исхудалом и все равно прекрасном лице, полные страха, мольбы, страдания, невольно привлекли внимание Курта.
— Какая красавица! — пробормотал он. — Но обстановка, прямо скажем, не располагающая!
Фашист оттолкнул женщину и начал сбрасывать малышей с тюфяка, на котором они сбились, как птенцы в гнезде.
— Ох, уж эти русские! Куда ни сунешься, везде полно детей… Так и есть! Килограмма два будет!
Он с торжеством схватил кулечек с зерном, который оказался под постелью. Возглас его слился с плачем ребятишек, и все было заглушено воплем женщины.
— Отдай! — закричала степнячка, вцепившись в кулек. — Отдай! У меня дети. Чем же я их кормить буду?!
И она вспомнила, как, застряв в Сталинграде, ходила со своей дочкой на элеватор и набрала там кулек зерна и как на обратном пути пристали к ним дети, потерявшие родителей: мальчик пяти лет и хорошенькая семилетняя девочка с тугими темно-русыми косичками, в богатом драповом пальтеце. Сидели все четверо под развалинами, занятыми врагом, — била советская артиллерия с левого берега, — и мучительно решала женщина нелегкий вопрос: взять, не взять? Свою дочку кормить нечем. Решила: не брать. Но когда поднялась крадучись и подтолкнула дочурку, забеспокоились, засобирались те двое и пошли следом — два беззащитных, напуганных маленьких человечка. Одни, а кругом рыщут, как жадные волки, беспощадные враги.
Не вытерпело сердце матери: приняла беспризорных малышей.
И вот теперь скалится в лицо голодная смерть.
— Отдай!
— Убью! — сказал Курт по-русски и пнул женщину в живот большим фетровым ботом, напяленным на сапог.