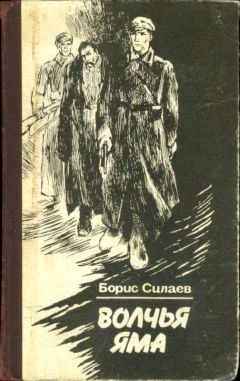Владимир Шустов - Человек не устает жить
В сумерках вышли на лесную опушку.
Впереди, на холмах, покоилось широкое поле, уставленное скирдами соломы и зародами сена. Между холмами в узкой долине, уже занавешенной сумерками, приютилась деревенька — десятка полтора домов, и вкривь и вкось понастроенных в излучине речки, отороченной по берегам на всем видимом их протяжении ивовыми зарослями. За околицей, с юго-западной стороны, у самого леса среди сугробов зябла на поземном ветру одинокая изба с продавленной крышей.
Темнота подступала исподволь. Скрыла вначале низину, один за другим погасив робкие светляки деревенских окон, неторопко взобралась на холмы и окутала поля серой мглой. Все поглотила она, кроме избы, по-прежнему чернеющей среди поблекшего белоснежья.
И они направились к этой избе. Пошли с задворья… Долго таились за плетнем, наблюдая. Летний дощатый сарай с подпорками по бокам. Заметенный по крышу хлев. Поленница и под навесом сани-розвальни с задранными оглоблями.
— В окнах темно, — сказал Николай.
— Жилая, — сказал Михаил. — От крыльца, видите, свежая тропа к хлеву, поленнице и воротам. Лошади в хозяйстве нет: сани на приколе и двор не изъезжен. Тропа едва натоптана. Значит, народу немного.
Аркадий боком протиснулся в дыру, проделанную кем-то в плетне умышленно: лозины были аккуратно раздвинуты и закреплены мочалками, пересек открытую площадку и прижался к шершавым бревнам, источающим избяное тепло. Он чувствовал это тепло, несмотря на стужу и ветер. Взобравшись на завалину, Аркадий прильнул к окну и стал вглядываться в холодное стекло, заслоняясь от прозрачной темноты надвинутым поверх головы воротником комбинезона. Потом он осторожно постучал в переплет рамы. Окно изнутри осветилось неброским колеблющимся светом. На стекле обозначилась тень, придвинулась вплотную.
— Кто?
Даже сейчас Аркадий, как ни старался, не мог различить ни человека у подоконника, ни того, что скрыто в помещении. Прижавшись лбом к холодному стеклу, он смотрел во все глаза.
— Кто?
И Аркадий заговорил, заговорил торопливо, взволнованно.
— Свои. Мы свои! Не бойтесь!
Тень отшатнулась. Огонек мигнул и погас. Стекло потускнело. Аркадий поспешил к крыльцу, где ждали товарищи.
За дверью женский грудной голос проговорил:
— Ступайте, чоловики, с миром. Деревня недалече.
— Нельзя нам в деревню, — сказал Аркадий. — Никак нельзя!
Дверь распахнулась. Они не сразу переступили порог, а, стряхивая с одежды снег, вслушивались чутко в тишину жилья. В избяном пристрое без потолка, но с полом, среди березовых веников, развешенных гирляндами по стенам, их встретила простоволосая женщина с пучком чадящей лучины в руке. Морщинистое лицо ее даже при свете лучины поражало болезненной желтизной. Аркадий осторожно притворил дверь, подумал и запер на крючок. Вслед за хозяйкой прошли они в жилую половину.
Лучина струила копоть к щелистому потолку. Неяркий свет раздвигал темноту, показывая то край скамьи с кухонной утварью, то прикрытые мокрыми кружками фанеры ведра с водой, то кадушку с булыжным гнетом. «К нам, к нам, к нам, к нам», — призывно выстукивали в темноте часы-ходики. Широкоскулая русская печь с подслеповатыми норками печурок словно только что пробудилась и вовсю позевывала округлым провалом неприкрытой топки.
В горнице было чисто, пусто и прохладно. Крепко пахло свежей хвоей. Прямо, в простенке, зеркало, занавешенное простыней. Посередине горницы — стол. На столе, во всю его длину, покойник под белой холстиной. Летчики остановились у стола, Руки их невольно потянулись к шлемофонам. Может быть, впервые за трудные эти дни они растерялись, не знали, как себя вести. У женщины дрогнули уголки бескровных губ. Она откинула холстину с головы покойника. На столе лежал мальчишка. В колеблющемся свете лучины он казался живым. Хотелось сказать, хотелось позвать громко: «Вставай, паренек! Чего же ты, друг, так рано заснул?» Но сложенные на груди руки и оплывший огарок свечки меж пальцами ломали эту иллюзию жизни.
— Третьего дня словил Янека полицай, в лесу словил, — голос матери зазвучал низко, приглушенно. У глаз в излучинах морщин показались слезы. И, уже не в силах сдержать горе, она запричитала: — Изгалялся над дитем, нечестивец, мордовал… Силушки нету боле, моченьки нету боле… Сын помер, сын… В землю сына треба заковать… Больно мне, ой больно!..
И Аркадий сказал:
— Мы похороним его. И Михаил сказал:
— Веди, мамо.
На опушке леса в затишье, на поляне, окруженной елками, мать выбрала для сына место. Поджарая гладкая сосенка крошила с ветвей снег, вздрагивала тонким стволом, когда лезвия заступов рассекали паутину корней. Могилу копали долго. Дно подровняли, выстлали досками. Принесли и опустили Янека. Простились поочередно, засыпали гулкой мерзлой землей. Опершись на лопаты, постояли простоволосыми над холмиком.
Аркадий, словно принимая клятву над прахом павшего в бою однополчанина-летчика, вскинул над головой руку со сжатым кулаком.
— Не забуду! — сказал твердо.
— Не забуду! — повторил Николай.
— Не забуду! — как эхо, откликнулся Михаил.
И темный тревожный лес вроде затих на ветру, прислушиваясь к их суровым хриплым голосам.
За поминальной трапезой, в теплой, заставленной домашней утварью кухне, женщина рассказывала Аркадию о жизни «при немцах», о новоявленных властях. Она рассказывала и жалостливо наблюдала, с какой ненасытной торопливостью поглощали гости ячневую приправленную молоком кашу, как от обильной пищи запоблескивали бисеринки пота на их заросших щетиной и обтянутых потрескавшейся кожей худых лицах. Близость людей, тоже нуждающихся в участии, скрадывала на время ее тоску и боль. Николая с Михаилом сон сморил прямо за едой: один уснул, уткнув лицо в сложенные на столе кренделем руки, другой — откинувшись к стене.
— Немец до нас не вдруг наведывается: опасается, — говорила Аркадию хозяйка. — И войска ихнего в нашей деревне на постое нету. У нас полицаи… Двое меньших — подневолыцики, а заглавный лют. Ох лют! Евсеем Пинчуком зовется заглавный-то. Пришлый в наших краях. Пес он шелудивый. Партизан вынюхивает, выискивает. Дён шесть тому было, сказывают, возле железки партизаны порчу немцу учинили. Евсей через это и взъярился, зазлобствовал. Сыск по избам учинил. Мужиков похватал, И Янека вот…
— Пинчук?
Аркадий бережно погладил худое плечо женщины. Он готов был сделать для нее все.
— Где квартирует Пинчук?
— У нас тут, в великой избе, возле колодца. Все полицаи там.
— С оружием?
— Не приметила ружей. Железы рогатые у них…
— Автоматы. Ясно.
Аркадий помотал головой: в тепле его совсем разморило. Хозяйка поднялась со скамьи, принесла из горницы старый тулуп, раскинула его на полкухни.
— Приляг, — сказала. — Я тем часом харчей соберу, одежонку какую поищу.
4. СМЕРТЬ СМОТРИТ В ЛИЦО
Писк и возня мышей под половицами разбудили Аркадия. На дворе по-прежнему буянила непогода. Ветер, задувая в печную трубу, свистел протяжно. О гребень крыши вровень, словно дятел о сушину, стучала доска. Темный квадрат окна уже оплеснула зыбкая предрассветная муть. В глухом углу неровно коптила лучина, время от времени скидывая в деревянную плошку с водой тонкие скрученные жаром угли. Они шипели в воде по-гусиному и выплевывали кверху фонтанчики белесого пара.
В горнице, за переборкой, хозяйка, вздыхая и бессвязно бормоча, перебирала что-то, судя по шелесту, матерчатое, поскрипывала крышками сундуков, часто вздыхала. Привидением появилась она в кухонных дверях. На руках ворох одежды. Прижимая его подбородком, она взглядом отыскивала, куда бы положить ношу, осторожно прошла к табурету, опустила на него одежду и неслышно удалилась. Аркадий сонно оглядел кухоньку. Пестрые вороха тряпья виднелись и на столе и на скамье, под которой в ряд выстроились пузатые котомки с наплечными лямками из мешковины. «Пора, — лениво подумалось Аркадию, — пора. Все готово». Сладкая дрема сомкнула веки, убаюкивая. И поплыли опять перед глазами голубоватые прозрачные сугробы, поплыли и деревья под белыми накидками, и овраги… Запосвистывала метель. Среди снежной круженицы возникло незнакомое лицо, пригрозило пальцем: «В лесу хоронитесь. Иначе — беда». Лицо стерла метель, а на месте этом тотчас же появился Янек, живой Янек. Опущенные скобками вниз губы шевельнулись с усилием, еще шевельнулись… «Не молчи! — потребовал Аркадий. — Говори. Я слушаю тебя». Налетели со всех сторон белые мухи, завихрились. В их толчее затерялся Янек и вылезла омерзительная рожа с оскаленной пастью. «Поговорили? Ха-ха-ха-ха! Ох-хо-хо-хо!» Аркадий брезгливо отшатнулся от нее, затем ринулся к этой роже и… проснулся. «Ну и мразь, — подумал, вскакивая. — Приснится же!»
Из ближней к нему груды одежды отобрал синюю выцветшую рубашку-косоворотку, грубошерстные штаны и пиджак. Прикинул на себя, наскоро переоделся и глянул в пожелтевшее усиженное мухами зеркало на переборке: перед ним — неуклюжий и, по всему видать, простоватый мужичок с добродушным осунувшимся скуластым лицом, заросшим по глаза грязно-рыжей щетиной. И ничего в нем знакомого. Разве что глаза? Только глаза. Аркадий подмигнул мужику: «Как самочувствие? Как живется-можется?» Тот — хоть бы хны ему! — подмигнул тоже: «Ничего живем. Терпим, не жалуемся». Аркадий пригладил пятерней взъерошенные волосы и беззвучно рассмеялся: «Значит, порядок!» И, вполне удовлетворенный столь чудесным превращением, растолкал богатырски храпевшего Николая.