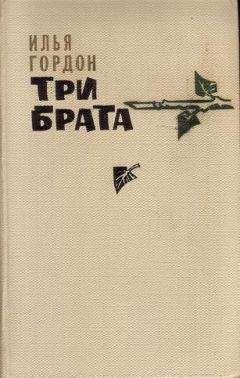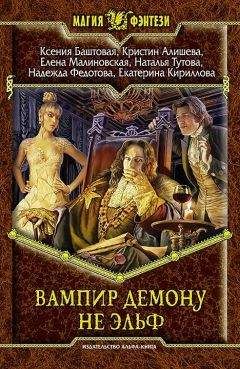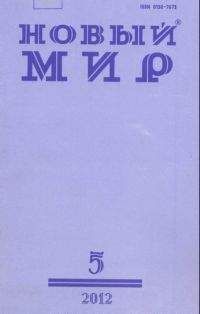Михаило Лалич - Избранное
— А почему именно меня? Разве нельзя повременить два-три дня?
Фольксдойч насмешливо спрашивает, есть ли у него еще возражения и претензии?
Не поняв, Богич говорит, что у него двое ребят.
Ответ в переводе фольксдойча снова вызывает взрыв смеха. Богич передергивается. Ему тяжело дышать. Обнажив грудь, он выпрямляется и твердым шагом выходит. Смех гаснет, солдат поворачивается и захлопывает двери.
Маленький просвет, наполненный зеленью и синью неба над верхним косяком, уменьшается и исчезает. Словно с силой сдавили, выцедили и бросили зеленую губку. Осталось что-то серое, сухое, покорное: ясли, сено, конский навоз, бледные небритые лица, дрожащие пальцы, скручивающие последние цигарки. Просят закурить и некурящие, кажется им, это чем-то поможет, неумело скручивают и жадно затягиваются. Кто-то жалуется, что холодно, спрашивают: «Откуда такой холод?» — поднимают воротники, суют руки в карманы или в рукава. В другом углу дрожмя дрожат могильщики. Всю ночь они не сомкнули глаз и с утра не проронили ни слова.
II
Грянул залп, резкий, дружный, как первый. Следующий, когда я буду там, окажется неслаженным, расплывчатым, как второй. Так все идет своим чередом и соприкасается противоположностями. Видимо, таков уж извечный закон или мать всех законов — все притягивать и отталкивать, чтобы свести к парному и непарному. Природа таким манером скрывает свои повторы, чтоб не надоесть, а судьба — свою несамостоятельность и отсутствие воображения. Убийцы о том и не подозревают. Они знают лишь то, что они немцы, швабы, и от них требуют не хорошо думать, а хорошо стрелять. В первый раз залп получился дружный, во второй — чьи-то руки опоздали, а чьи-то поторопились. И так попеременно. Расстреливаемым все равно — они не успевают замечать разнобой. Одни падают, как подкошенные, другие в муках судороги роют землю плечом и пятками. Кровь брызжет из маленьких ран и хлещет из больших — сейчас там она застывает в общей луже и становится землей. Были они в Черногории пасынками семьи, братства, племени, Черногории, которая сама пасынок Балкан и всего мира, — а теперь они даже и не пасынки.
Я закурил сигарету. На ней надпись: «Ловчен». Табак хороший, и я жадно затягиваюсь. Огонь приближается к букве «н» и пожирает ее. Вслед за ней горят еще две буквы — здесь две буквы, где-то в другом месте два села или две улицы. Осталось только «Лов» — это уже не «Ловчен», ничего похожего, звучит, скорей, как английское имя или что-то связанное с голосованием. Вместо Ловчена перед глазами встает Цетинье, сверкающий на солнце красными кровлями, тесаным камнем и оконными стеклами. Звонят колокола, у Влашской церкви белеет кладбище, экзерцируют солдаты, надрываются от крика офицеры и капралы, и черным-черно от ряс у Билярды [6] и вокруг нее. Там единственная бесплатная школа в Черногории — семинария. Послали меня в эту школу, чтоб сбагрить с шеи, выдержал я все экзамены, и тем не менее меня не приняли: не умел петь! Откуда было уметь? Петь меня не учили, учили только плакать, учили подряд все жандармы, приходившие по вечерам и на рассвете, выпытывать о бунтаре Сайко Доселиче — где его прячем да куда носим еду?
Удрученный провалом и тенью, которую бросает на жизненный путь сына мой отец Сайко, я уселся под каштанами на какую-то стену, в ожидании, что меня жандармы сгонят и оттуда. Старый трактирщик, Стево Фатич, знавший моего отца, предоставил мне ночлег и на следующий день отправил товарным до Колашина. От Колашина я шел пешком вдоль реки, мимо мрачных пещер, через леса, где белели остовы сосен. Лил дождь, гремел гром и сверкали молнии — сейчас бы вернуть ту ночь и пойти по той дороге…
Чего это они не идут?.. Сигарета догорает. Я смотрю на свои желтые пальцы; жалкие какие-то, словно знают, что их ждет. И все-таки каждый на свой манер, не хочет походить на другой. Ноготь на указательном будто застыл в бледной улыбке — смирился с судьбой. Его сосед хмуро таращится и наводит критику: «Все могло быть лучше, кабы поступал по-иному…»
Если кто заметит, как я уставился на свои ногти, говорю я себе, подумает: «Рехнулся человек от страха!» Но это вовсе не так — мучительней и тяжелей всего для меня не страх, а ожидание. Хотя ничего тут нового нет, я жду давно, и вся-то наша жизнь какая-то дурацкая ожидальня. Наша жизнь — старый комедиант, что потешает судьбу, показывая ей, как нас половчее обмануть. Два-три раза это ожидание украшается фейерверком. Любовь — один из этих фейерверков; богатство — второй; военная или другая какая слава — третий. И власть тоже, но, по сути дела, все это прах и дым.
Пытаюсь пускать кольцами дым, но у меня не получается, мешает сквозняк. Опять вспоминаю, как выходили: трое, четверо и опять трое. В следующую группу возьмут четверых. Похоже на зигзаг. Есть тут какая-то тайна — линия змеиных узоров и движений, одновременно и спираль, и повторение внезапности.
— Сейчас возьмут четырех, — говорит Видо.
— Почему думаешь?
— Первый раз взяли трех, потом четырех и снова трех; сейчас, значит, опять четырех.
— Лучше помолчи, — косится на него Борачич.
Этот узловатый в суставах, тронутый сединой человек, с торчащими усами, тертый калач, испытал в жизни все, и многое написано на его лице. До войны подвизался как наемный убийца. Подготовит сначала алиби, потом убьет, отсидит в следственной тюрьме, а на суде докажет, что не убивал. Одному богу известно, что привело его в партизаны, во всяком случае не любовь к правде. Он считает, что правда немощна и такой останется во веки веков. Борачич по-прежнему задира, особенно со слабыми, и не любит, когда ему напоминают, что его ждет.
— «Сейчас три, сейчас четыре», — глумливо бросает он, — все-то ты знаешь.
— Сейчас мы все это знаем! — говорит Видо.
— Когда предсказывают будущее, меня это оскорбляет, понятно?
— Непонятно!
— Живы будем, поглядим, понятно? А сейчас помолчи!
— Долго их нет, — замечает Гойко. — Что там у них?
В этот момент слышится топот тяжелых солдатских ботинок. Топот все ближе. Солдат теперь гораздо больше. Вот-вот распахнется дверь, и поманят пальцем — будто крюком зацепят человека и вытащат, как рыбу. Не желаю, чтоб пялили на меня глаза и вытаскивали на крючке. Могу и по-другому… Я поднимаюсь, подхожу к двери, останавливаюсь у порога, как недавно сделал Радул Меденица. Хватит в конце концов ожидания! Лучше с этим покончить, пока я в здравом уме и могу держаться с достоинством. Даже полегчало, впрочем, мне всегда легче, когда иду навстречу опасности. И вдруг в памяти всплывает неповторимый голос Радула Вуксановича из Куча: тюрьма, поворот ключа в замке, в камеру врываются на рассвете бородатые четники. Вуксановича вызывают на расстрел, а он обращается к земляку Спахичу: «Прошу тебя, Груйо, передай эту табакерку отцу в память о сыне. И вот тебе девяносто две лиры. Отдай моим старикам, наверно, сейчас голодают, пусть знают, что я думал о них в свои последние минуты…»
Не знаю, почему мне это вспомнилось: посылать мне нечего и некому поручать. Слышу, кто-то встает и подходит ко мне. Теплое дыхание щекочет мне затылок. Не знаю, это Шумич, Гойко или Шайо — какая разница, все сведется к одному и вскоре мы будем одним. И мысли сейчас у нас те же: мы сами решили пойти, не ждать, чтобы нас отбирал этот швабский кретин, как овец из отары, словно мы жалкие овцы, что боятся ножа и до последнего надеются, авось нож предназначается другому…
Двери растворяются внезапно, на пороге появляется солдат и отскакивает назад.
— Gut, — говорит он весело и добавляет: — Айди, айди!
Выхожу на тропу, огороженную с обеих сторон шпалерами солдат. Не смотрю на них, умышленно не смотрю — смотрю в небо с нагромождением облаков. День серенький, а надо бы, раз уж последний, быть ему прескверным или распрекрасным. Голые вершины освещает солнце — красноватое, оно ползет вниз; долго ему еще до нас ползти, к тому времени мы спустимся глубже. У судей и палачей не принято убивать до восхода солнца, они, наверно, полагают, что за день все позабудут и ночью их не станут мучать кошмары. Четникам это не помеха, они выводят на расстрел и в полдень, и даже в сумерки.
Чувствую на руке ладонь Видо Ясикича, это меня огорчает и сердит: вечно этот мальчишка лезет куда не надо!.. Подождал бы, вышел бы последним, может, его пожалели бы и отпустили вместе с могильщиками. Всегда лучше повременить. Надо было ему сказать. Смерть порой наестся до отвала и уползает, как брюхатая сука, отсыпаться.
Выходят и другие, не ждут вызова. Так в стародавние времена поселившиеся здесь бубняры [7], увидев впервые туман, решили, что это овечья шерсть, взобрались на скалу, отыскали удобное место для разгона и давай один за другим прыгать в эту шерсть. Так и мы, думаю я, скачем в «овечью шерсть», разница лишь в том, что бубняры не знали, что там внизу, а мы и знаем и не знаем.