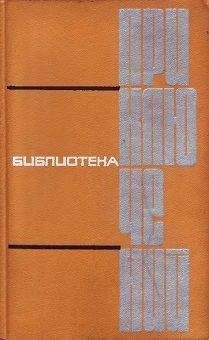Павел Кодочигов - Здравствуй, Марта!
— Хватит тебе, Нинка, что-то устала я. — И быстро повернулась к Марте: — Марта, рассуди нас. Ты была в Теремце?
— Нет, проезжала только мимо на пароходе, но деревня мне понравилась — настоящий теремок.
— Был, — вздохнула Рая.
— Почему был, может, и сейчас...
— Сначала в нашей деревне был передний край немцев, а потом наши фрицев выбили, а дальше продвинуться не смогли, так что...
— Подожди, Рая, а как же ваша семья здесь оказалась? — Как? Как? Немец угнал. Вот так и оказалась.
Снова замолчали. И Марта вспомнила, когда она один-единственный раз видела Теремец. Это было в конце июля сорок первого года, когда она поехала в Ленинград учиться и когда ей сказали: «Поезжайте-ка, голубушка, домой. Отгоним немцев подальше, начнутся занятия — вызовем». Всего три года назад, а кажется, что тридцать...
Обратно ей удалось добраться только до Чудова. Дальше поезда не шли: где-то был разрушен путь. Она кинулась на пристань. Солдаты помогли донести вещи, устроили на какой-то буксир.
Пароходик победно протрубил неожиданно густым басом и отчалил от берега. За бортом заплескалась и побежала назад вода. Крутые струи ее, отороченные белыми бурунчиками, накатисто побежали к берегам, и в лад с ними потекли воспоминания последних дней: улицы военного Ленинграда, дорога от него до Чудова со свежими, правильно круглыми воронками от авиабомб, черные скелеты недавно сгоревших домов в какой-то деревушке и густой дым, охвативший улицы и небо Чудова, красное гудящее пламя, рвущееся в город со стороны керосиновых баков.
Все это было уже позади, а сейчас взору открывался Волхов, несущийся навстречу слепящей лентой. Берега, сбегающие к нему золотом поспевающих полей, подступающие темными синими лесами, кучи толстых белых облаков, подсвеченных по краям солнцем.
Буксир упрямо забирал против течения, оставляя позади себя ребристые волны. Они мельчали вдали, закипая у берегов белой пеной. А впереди река спокойно голубела. Лишь изредка ее полуденную дрему вспугивала серебристая спинка разыгравшейся рыбешки, и от ее радостно-удалого всплеска по зеркальной глади реки расходились небольшие круги.
Вот тогда Марта справа от буксира и увидела небольшую, прилепившуюся к самому берегу деревушку с кучкой древних раскидистых лип и ласковым названием Теремец. Сразу же за ней, чуть выше по берегу, густо зеленел сосновый лес. Хорошая деревенька, уютная, домашняя. Какая-то девчонка махала вслед буксиру белым платком. Она подняла руку и помахала ответно — спасибо!
До боли в глазах вглядывалась она тогда в знакомые очертания города, облегченно-радостно чувствуя, как потерянность и тревога, ощущение своей бесприютности уступают место покою и умиротворению. Вот она и дома! Почти дома — от Новгорода до Николаевки рукой подать. Все будет хорошо. И правильно ей посоветовали пожить пока у матери. Не вечно же будет длиться эта война, и не вечно наступать врагу. Погонят его, еще как погонят! Вон сколько войск в Ленинграде, Чудове, Новгороде, на всех станциях, которые она проезжала. Сколько танков, артиллерии, пулеметов! У красноармейцев появились какие-то новые винтовки с плоскими штыками. «Все будет хорошо, мама, — сказала она матери, вернувшись домой, — до нас они, во всяком случае, не дойдут. А придет вызов, так вместе и поедем».
— Девчата, — подняла голову Марта, — давайте-ка споем, что-то уж очень тоскливо у нас сегодня. Подхватывайте:
В далекий край товарищ улетает,
Родные ветры вслед за ним летят.
Любимый город...
— Ну что же вы?
Сколько раз видела Марта, как плясала русскую Рая. Ввалится в камеру после допроса, обведет всех диковатыми глазами, словно проверяя, все ли на месте, и — в пляс. Вот вам: «Русская я! Русскую и пляшу, и ничего вы со мной не сделаете!» А сейчас и она сникла, съежилась.
Нина отвернулась к стенке, глаз не показывает. Плачет, наверно.
И самой Марте не по себе — вспомнила под песню Борьку. Позавчера приводила его мама в тюрьму. Ее не пустили, а его привели в камеру. Только кинулась к нему, взяла на руки и лопнула у ней какая-то струна — всего улила слезами, слова ласкового не могла сказать сыну. От этих дум даже стон не сдержала, но справилась с собой, разогнула избитую, опухшую спину, заставила себя отвлечься, а тут снова песня послышалась. Мотив знакомый, а слова?.. Рая запела!
Раскинулись камеры широко,
Лишь звуки доносятся в них.
Мы будем сидеть очень долго,
Пока не дождемся своих.
Не особенно складно. Ритма нет, и о рифме девчонка понятия не имеет, но до чего же трогает все: и эта тоска по родным, и чистому небу, которое они видят только из окна камеры...
Жалеем мы наших родителей,
Что в разлуке приходится жить...
Дорогие вы наши, мамули,
Не надо об этом тужить.
Милая, милая Райка! И у меня эти слова в мыслях. День и ночь только и думаю о своей маме. Как она переживет все это? Ведь не вырваться мне отсюда, ни за что не вырваться... Ты, Рая, может и выберешься — какая вина за тобой, а меня не выпустят... А о сыне ничего нет в твоей песне? Нет, не знаешь еще ты, Рая, что это такое свой ребенок, сын...
Дождемся красивое время,
Покинем несчастный наш дом.
Потом рассчитаемся строго,
А с кем, мы расскажем потом.
Правильно, Рая! Обязательно рассчитаемся! Если не мы, так другие. За нас есть кому отомстить...
А теперь до свиданья, родные,
Счастливого в жизни пути.
Пройдет это скучное время,
Настанут счастливые дни.
Настанут, Рая. Обязательно настанут! Скоро уже! Только дождемся ли мы их?
Смолкла песня. Кончились ее немудреные слова. Снова тишина повисла в камере. Потом послышался голос Марты:
— Рая, как там у тебя последний куплет? Повтори-ка, а мы подпоем.
Вздрогнула от неожиданности Рая, подняла голову, смотрит на всех недоуменно, думала, не слышал никто, а тут... Засмущалась:
— Да это я так. Для себя... Но Марта не отступала:
— Ну и хорошо, что для себя. А сейчас для нас давай. Как там у тебя? «А теперь до свиданья, родные...» Дальше-то как?
Пришлось Рае еще раз пропеть последний куплет. А Марта не унимается. Почувствовала, как все воспрянули в камере, и решила подбодрить подруг:
— Давай еще раз, Рая. Сначала. Твоей песне, если хочешь знать, цены нет. Мы ее сейчас вместе споем, выучим и будет, знаете, девушки, что у нас будет? Своя песня. Песня нашей тюрьмы. Нашей камеры. Слова Раи Марковой. Музыка народная на мотив известной песни «Раскинулось море широко»...
Посмеялись. Ох, уж эта Марта! Что-нибудь да придумает! И поддержали:
— Правильно! Рая, начинай. То уж смелая больно, а тут воды в рот набрала.
Уговорили. Снова завела Рая песню, уже громче, увереннее, но допеть до конца не удалось. Шум во дворе тюрьмы послышался. Загремели засовы.
— Пополнение?
— Интересно, кого еще привезли? Вдруг к нам, и так тесно...
— Ничего, в тесноте, да не в обиде. Давайте, девушки, встретим их нашей песней.
— Что-то много народу?
— Охранники! Зачем бы это?
А те уже выкрикивали фамилии заключенных:
— Выходи!
— Выходи!
— Вещи взять с собой, вы переводитесь в тюрьму города Тельшяя! — несколько раз громко, чтобы слышали остающиеся, объявили заключенным.
Что это они такие вежливые? Тюрьма притихла. Не поверила. Знала тюрьма: если после полуночи, то расстрел.
Из женской камеры вывели Марту, Раю Маркову, Нину Леонтьеву.
В мертвой тишине громом отдались шаги охранников. Их было на этот раз особенно много — по два на каждого заключенного.
Взревели моторы машин. Одна за другой выехали они из ворот тюрьмы и по безлюдному городу направились за переезд, к выезду из Мажейкяя.
Миновали тихую, без огоньков, улицу, и в лица узников остро пахнуло полем.
Поныряв в придорожных канавах, машины свернули влево и вместе с запахом разогревшейся за день и не остывшей еще хвои укрепилась мысль: не другая тюрьма — расстрел! Здесь, где всегда...
— Выходи! Раздеться до нижнего белья! Одежду в кучу — она вам больше не понадобится...
Пьяный смех. Шуточки. Яма, окантованная серебристым песком. Ясная ночь. Небо в звездах. С реки тянет прохладой.
Кучка обреченных в плотном окружении автоматов и винтовок. Не вырваться. Это конец!
* * *
Какая трагедия разыгралась здесь душной июльской ночью? Кто пал первым, и кого замучили последним? Об этом знают лишь каратели: из шестнадцати заключенных, вывезенных из Мажейкяйской тюрьмы в ночь на двадцать четвертое июля сорок четвертого года, в живых не осталось ни одного.
Поднаторевшие за три года войны в зверствах мастера расстрелов не спешили. Всю ночь до ближайших хуторов и Мажейкяя доносились выстрелы и крики истязуемых — каратели творили не расстрел в обычном понимании этого слова, а изуверскую расправу.