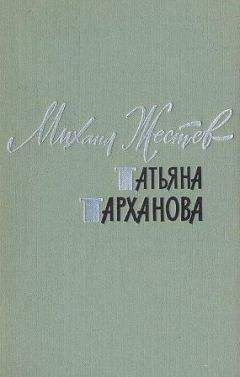Михаил Стельмах - Большая родня
— Такое дело, мам, что просо у нас с грибком. В прошлом году как молотил — три дня, словно камин, сажей плевался. В одной книжке вычитал: такое просо хорошо бы припустить на легком огоньке.
— На огоньке? Шелуха же отскочит.
— Если струйку пропустить через пучок соломы — то сгорит только головня. Об этом и в сельсовете гомонили. Агроном из района приезжал. Ох, и смышленый мужик. Аж завидки берут. Землю знает, как хорошая мать ребенка. Наука!
— Соседи будут смеяться.
— Сегодня посмеются, а завтра сами так сделают. Как вы думаете?
— Ну если в книжках головы пишут, то за что-то им ведь деньги платят.
— И я так думаю, — посмотрел насмешливо и прикусил губу.
«Взрослеет парень, мужает», — радовалась всей душой.
«И когда оно началось у него?» — перебирала в памяти первые проявления этих изменений. И совсем неожиданно обнаружила, что ее сын умеет не только под нос мурлыкать, но и петь весьма неплохо.
В воскресенье, спровадив Дмитрия на ярмарку в соседний поселок, пошла осматривать поля.
Солнце затуманило день, сырой и теплый, но очертания дальнего леса, домов были четкими, как свежая резьба.
Сизым переливом колыхалась озимь, тяжелые ржи потемнели, огрубели стрелами, а в них уже дремал спеленатый зеленым шелком колос. Все свои четыре десятины, разбросанные в пяти кусках, обошла до заката. Уже еле чапала домой, уставшая и радостная. Возле сарая стояла телега, в стойле забеспокоился Карий.
«Приехал Дмитрий с ярмарки». — И тотчас услышала, как тихо зазвучало боковое окно, крепким обветренным голосом запел неосвещенный дом:
На добраніч та всім на ніч,
А я чи не піду та вже спати.
За ворітьми зелен явір,
Там я тебе та буду ждати.
Вздрогнула и прислонилась к косяку.
Из-за Большого пути выплывала луна; вечер раскалывал и устилал синими дорожками верхушки неспокойных облачков, и деревья в саду раструшивали лучи да росы.
«Эту же песню пел Тимофей таким самым сильным грудным голосом, ожидая ее вечером. Отходил, друг мой, по зеленой земле… Только и живешь в сердце моем».
Ой чи явір, чи не явір,
Чи зелена яворина,
Поміж всіма дівоньками,
Тільки ти мені одна та мила.
Звучат мелодично оконные стекла.
«Может, где-то и ждет тебя твоя яворина, а может, только растет. Сказано: парень на коне, а девка в зыбке». Вошла в дом тихо.
— Как ярмарковалось, Дмитрий? — засветила плошку.
— Были бы деньги, всю ярмарку закупил бы. Жаль, что чуток не хватило.
— Только чуток? — весело улыбается. — Что же ты приобрел?
— Это, мама, вам, может, и не понравится, так как в ваших нарядах я мало соображаю. Привез ластику на сачок, — небрежно подает, а сам пристально смотрит на нее — то ли?
— Спасибо тебе, сынок, — аж задрожала она. «Ничего ведь не говорила — сам догадался. Сын. Не так дорог отрез, как внимание твое».
И тот вечер еще больше сблизил мать и сына то ли недосказанными словами, то ли дорогой счастливой каплей, которой блеснула от первого подарка. А сына успокоила.
— Сейчас я отца нашего вспомнила. Такой был молчаливый, хмурый на вид, как осенняя пора. А сердце имел человеческое.
V
Спокойно и широко течет дорога на искрящийся юг. За селом, будто в один день посаженные, выросли могучими воротами два дуба, на плечи легла кованая голубизна неба; темная узорчатая листва укрыла в себе сокровища, однако стоит ветерку пробиться сквозь живые кудри, как целые потоки солнца вспыхнут и брызнут во все стороны и изнеженно пригасятся клубами пальчатой зеленой пены.
Вокруг, сколько глаз охватит, хлюпают на узких нивах остистые и безостые пшеницы, покачивается длинными усами ячмень, куропаткой припадает по бороздкам несмелый нут, улыбается темно-голубыми глазами зеленая вика, пестреют капли крови на кудрях гороха.
У дороги жарко загорелся сноп мерцающего луча — с серпом в согнутой руке распрямилась молодая жница, рукавом полотняной сорочки вытерла пот со лба… Серебряный юнец гребешком обвил ее косы, притрушенные степной пылью. На минутку застыла возле снопа, словно около ребенка.
«Сафронова наймичка Софья, — узнает Дмитрий. — Ишь, сама горюет на чужом поле. А жнет — как огонь. Золотые руки у девушки. Вот и зарабатывает за чечевичную похлебку золото этому… чертяке черному», — со злостью подумал про Сафрона Варчука, и аж передернулось лицо.
Оранжевое поле возгордилось полукопнами[12], поет косами, серебрится серпами, цветет женскими юбками.
С широкой дороги Дмитрий свернул на гоны, и сразу же поля стали не теми полями, какими казались издали. То тут, то там постные нивы зарябили лысинами, сиротливый колос испуганно жался между шершавыми сорняками, колючий осот густо лущился грязно-белым пухом и рыжие опаленные межи шевелились крапчатой гусеницей.
Закрыть бы глаза и не смотреть на этот убогий колос, что детскими чахоточными ручонками выгребается из пырея, жалуется своему хозяину: «Что же ты забыл о нас? И нас обидел, и себя обидел…» Но очень часто пришлось бы закрывать глаза.
На буром, пополам с подножным кормом снопе полдничает Мокрина Карпец. В черной руке чернел, как камень, кусок черствого хлеба. Закусывает молодая женщина огурцом и не сводит утомленных, задумчивых глаз с двух поставленных шалашиком снопов, под которыми все время подает упрямый голос грудной ребенок. Не плачет он: кажется, взялся за какую-то непосильную работу и аж кряхтит от напряжения, но дела не бросает.
— Добрый день, тетка Мокрина. Где дядя Василий?
— Заболел, Дмитрий. То ли на холодной земле немощь подхватил, то ли вода простудила. Накосился на болотах, зарабатывая несчастную копейку у кулачья. Так последнее теперь отдаю на лекарство и растирки. Горе, и только! — Жилистой натруженной рукой берет из стерни серп, и он гаснет в жидкой плюгавой пшенице.
«Наешься хлеба с такой нивы. Если хватит до рождества, то и хорошо. А потом на морозе поденкой болезнь заработаешь — задумывается Дмитрий над чужой судьбой. — Вот двое детей у Мокрины, а видели они ложку молока? Аж теряют сознание, сося кислую тряпку с мякишем. И землю имей, а без скота…»
Недалеко от дороги сгребает ячмень молодой косарь. Насквозь пропотевшая рубашка туго охватила молодой стан, но косарь знает свое — машет граблями.
— Э-э, Григорий! Какой же ты мокрый. Рубашку хоть выкрути. Гов, гов, быки! — соскакивает потихоньку с полудрабка и подходит к Григорию Шевчику. Тот отирает пот рукавом, но сразу свежие капли заливают черные щеки и лоб. — Совсем мокрый, как барич.
— Устал, хай ему черт. На обед не ходил — добить хочется. А косарь, сам знаешь, не поест плотно — ребро за ребро заходит. — Он кладет грабли, продвигая косу под покос. — Вы уже ячмень закончили?
— Какой быстрый. С воскресенья начну — мой в долинке.
— Не Марийка ли Бондариха с Югиной идет в село? — Григорий переводит взгляд на дорогу.
— Может и они, — равнодушно отвечает Дмитрий.
Он живет далеко от Бондарей, мало знает их. Вот только недавно загомонило все село об Иване Бондаре: надумал мужик с кучкой бедняков организовать соз. И какие только слухи ни полетели из хаты в хату про союз совместной обработки земли. И об одеяле на весь дом, и об обобществлении женщин, и о печати антихриста. Напуганная Марийка теперь жизни не давала мужу: выпишись и выпишись из той компании.
Когда мать с дочкой, обходя телегу, оборачиваются к молодым мужчинам, Дмитрий встречает их быстрым взглядом.
— Добрый день, ребята, отдыхаете? — здоровается, не останавливаясь, Марийка Бондарь, худощавая, загоревшая на солнце, с нависшим ястребиным носом.
На минуту из-за плеча Марийки выглянула Югина и снова запряталась за матерью. Она белокурая, среднего роста, с интересными и ясными глазами, с полудетской радостной улыбкой.
«Любит пошалить, а когда смеется, на щеках, наверное, подпрыгивают ямки», — замечает невольно Дмитрий и начинает смотреть в даль.
— Славную дочь Бондари вырастили. — Григорий провожает жниц долгим взглядом.
— Кажется, славную, — отвечает Дмитрий, восстанавливая в памяти образ девушки. — Всего доброго, Григорий.
— Всего доброго, — с чувством сжимает руку крепкими пальцами. Он знает, что Дмитрий уважает его более других молодых людей, и дружбу старшего парня принимает за честь.
Степенно поскрипывают колеса и чадят клубами теплой золотистой пыли. Далеко на дороге замаячили фигуры Марийки и Югины. Расстояние уменьшило их, сделало темнее.
«В самом деле, хорошая девушка. Глаза аж горят. Правдивые». Парень погружается в воспоминания и не замечает, как подручный Ласий, сбивая бороздного Рябого, потянул ярмо на себя, замахал головой и быстро бросился вперед.