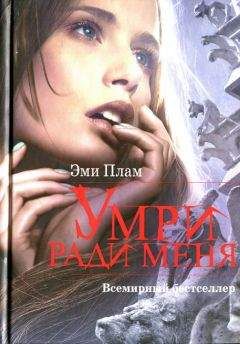Захар Прилепин - Рассказы
Они забежали к сестрам. Катя поставила на пол ведро с водой, ведро с картошкой и кастрюльку. Расселись вокруг. Раздала ножи, Ксюше — самый маленький и непоправимо тупой. Та, ругаясь, пошла менять ножик.
Чистили втроем, смеясь чему-то. Родик крутился возле. Катя прикармливала его сырой картошкой. Ксюша корила ее:
— Ну, что делаешь? Вот мать, а… Как тебе доверили ребенка!
— Смотри, чтоб тебе не доверили, — отвечала Катя, сдувая павшую прядь с лица и затем поправляя ее кистью руки, сжимающей нож.
Захарка веселился и старался не смотреть сестрам на колени: у Ксюши они были загорелее, у Кати — белее. У Кати — круглые, у Ксюши — с изящной выпуклой костью, как у какого-то высокого зверя, не знаю, быть может, лани…
А еще Катя сидела чуть дальше от ведра с картошкой и когда склонялась…
«Боже ты мой, что ж ты пристал ко мне с этим…»
Захарка выходил на улицу. Медленно бродили куры, тупые от жары.
— Ахака! — засмеялась Катя в доме, голос ее приближался.
— Слышал, что он сказал? «Де Ахака»? Вот твой Ахака, Родик! Вот он де.
Родик выбежал на заплетающихся ножках, солнечные ресницы, ушки в пушке.
До реки было минут десять ходьбы. Захарка снял шорты и бросился в воду с разбегу, чтобы не видеть, как раздеваются сестры. «Вообще бы их не видеть…» — подумал весело, неправдиво и сразу обернулся на их голоса.
— Как водичка? — спросили сестры одновременно, посмотрели друг на друга сначала недовольно, словно подозревая в издевке, и тут же засмеялись.
В этот день они больше не ссорились.
Катя прихватила с собой яблок. Лежа на берегу, копошась ногами в песке, они грызли румяные плоды. Захарка кидал огрызки в воду.
— Ну, зачем? — тянула брезгливая Ксюша.
— Рыбки съедят.
Катя поминутно садилась и кричала:
— Родик, не заходи глубоко! Нельзя! Там рыбки! Ай!
— Там? — переспрашивал Родик, показывая пальчиком на середину реки, и, вдохновленный, ступал дальше.
— Захарка, скажи ему, он только тебя слушается.
Брат смотрел, грызя яблочный черенок, как из-под плавок Кати выбилось несколько черных завитков, прилипнув к белой, сырой, в золотящихся, непросохших каплях ноге.
— Родик! — закричал он, неожиданно для самого себя громко, так, что пацан вздрогнул.
— Господи, что ж ты так кричишь! — всполошилась Катя, резко поднявшись с песка.
— Я к нему пойду, лежите… — Захарка дошел до Родика.
— Камыша нарвем? — предложил ему. — Лук у нас уже есть, стрелы нужны.
— Подем, — готовно ответил Родик и вылез из воды.
Они пошли вдоль берега, маленькая, невинная лапка в юной руке со странной линией судьбы и глубокой — жизни.
Вернулись с поломанным на стрелы камышом. По дороге Захарка нашел проволоку, накрутил на одну из тростин.
— Ну что, лягушки, заждались жениха? — спросил, натягивая тетиву.
Сестры развернулись, улыбаясь разморенно. Поднял лук вверх, спустил камышовую тростину, взлетела неожиданно высоко.
Родик сразу потерял стрелу из вида, не понял, куда она делась, смотрел вокруг себя, удивленный.
* * *Разбудил визг свиньи.
«Режут уже! Черт, не успел!»
Вскочил с кровати, натягивал шорты, едва не падая.
Но свинью пока лишь привязали: перетянутая впившимися в жирную шкуру веревками, она стояла в темноте сарая, и каждый раз при появлении человека начинала визжать.
Захарка наблюдал ее, встав в проеме дверей, едва разлепив глаза, еще не умывшийся, улыбался.
Не было ни единой мысли в голове, но где-то под сердцем тихо торкал в кровь странный вкус сладости чужой, пусть животной, смерти.
«Кричишь, свинья? Хочется тебе жить?» — что-то такое подрагивало в темном и тайном закутке мозга.
Хотя рассудок, внятный, человеческий рассудок подсказывал: надо жалеть, как же так, неужели не жалко?
«Жалко», — согласился без усилия.
Визг, впрочем, долго терпеть было невозможно.
Захлопнул дверь, подошел к деду, сидевшему на пенечке. Дед подтачивал и без того жуткий нож, все время отсвечивающий на солнце длинным лезвием.
На Захарку дед не посмотрел, строгий.
— Откуда она знает, что ее зарежут? — громко спросил Захарка, едва визг умолк.
Дед на секунду поднял маленькие и отчего-то, как показалось Захарке, неприветливые глаза. Встал, зачем-то побрел к себе в мастерскую.
«Не расслышал», — подумал Захарка.
— Зверь все знает, — сказал дед негромко, сам себе, ни к кому не обращаясь.
Через минуту дед вернулся, и Захарка понял, что ошибся, подумав о тяжелом настрое деда.
— Не видел, как свинью режут? — спросил дед просто.
— Нет, — ответил Захарка радостно.
Дед кивнул. Не было ясно, что это означает: ну, сегодня узнаешь, или — и хорошо, что не видел.
Появилась бабушка, позвякивая железными тазами, которых исхитрилась принести сразу штук шесть.
Посмотрела на деда, медленно копошащегося, но торопить не стала, хотя неумолчный визг ей слушать вовсе не желалось.
Захарка потоптался с минуту и решил сбегать в туалет.
Деревянная, приветливая, оклеенная изнутри старыми обоями будка стояла возле огорода. Подходя к туалету, Захарка каждый раз оглядывал грядки с арбузами.
Арбузы были обидно малы и зелены.
«Не успеют к моему отъезду, не успеют», — привычно огорчился Захарка.
Внутри туалета всегда было сумрачно, но с хорошими солнечными просветами сквозь щели меж досок. Неизменно летали одна или две тяжелые мухи. Никогда не садились больше, чем на несколько секунд. Снова жужжали стервенело.
На гвозде — старый журнал сельского механизатора. В который раз Захарка рассматривал его, не понимая ничего. В этом непонимании, ленивом разглядывании запылевших страниц, солнечных щелях, беспутных мухах, близости деревянных стен, желтых обоях, тут и там оборванных, ржавой задвижке, покрытом черной толью, чтоб не подтекало, потолке — во всем была тихая, почти недостижимая, лирическая благость.
Свинья завизжала жутче, страшнее, отрешенней. Захарка поспешил.
Визг оборвался, когда он еще не добежал. Еще пришлось бабушку пропустить: она куда-то торопилась, и по ее виду — чуть взволнованному, но и успокоенному одновременно виду («…все конечно, слава Богу…»), — Захарка понял, что свинью зарезали.
Дед неспешно красными руками развязывал (мог бы разрезать, но не стал, сберег веревки) узлы, прикрепившие свинью к стояку сарая.
«Нарочно он меня не подождал… или не нарочно?» — подумал Захарка и ответа не нашел.
Сначала, освобожденный, обвис зад свиньи, — но она еще держалась, привязанная к стояку за мощную шею. Дед отодвинул таз, полный кровью, натекшей из перерезанного горла, и распустил веревку на шее. Свинья с мягким звуком упала.
Захарка подошел близко, с интересом разглядывая смолкшее животное. Обычная свинья, только мертвая. Ровный разрез на горле, много белого сала.
— Что-то нож не вижу… — осматривался дед. — Захарка, посмотри.
Нож был воткнут в стену сарая. Рукоятка его была тепла, лезвие в подсыхающей крови.
Он подал нож деду, держа за острие. Измазал пальцы, смотрел потом на них.
Свинье взрезали живот, она лежала, распавшаяся, раскрытая, алая, сырая. Внутренности были теплыми, в них можно было погреть руки. Если смотреть на них прищурившись, в легком дурмане, они могли показаться букетом цветов. Теплым букетом живых, мясных, животных цветов.
Дед уверенно извлекал сердце, почки, печень. Кидал в тазы. Выдавил рукой содержимое прямой кишки.
Живое существо, смуро встречавшее Захарку по утрам, теревшееся боком о сарай, возбужденно похрюкивавшее при виде ведра со съестным, умевшее, в конце концов, издавать удивительной силы визг, — существо это оказалось ничтожным, никчемным, его можно было разрезать, расчленить, растащить по кускам.
И вот уже лежала отдельная, тупая, свиная голова, носом вверх, с открытой пастью. Казалось, что свинья желает завыть, вот-вот завоет.
И видя эту голову, даже куры немного придурели, и петух ходил стороной, и коза смотрела из темноты иудейскими страдающими глазами.
Захарка прошел в дом. Бабушка, спешившая навстречу с тряпкой в руке, сказала:
— Покушай, я там оставила…
Но он не стал — и не потому, что расхотел есть от вида резаного порося. Ему не терпелось к сестрам. Все это живое, пресыщенное жизнью в самом настоящем, первобытном ее виде и вовсе лишенное души, — все это с яркими, цветными, ароматными, внутренностями, с раскрытыми настежь ногами, с бессмысленно задранной вверх головой и чистым запахом свежей крови не давало, мешало находиться на месте, влекло, развлекало, клокотало внутри.
Та самая, тягостная ломота, словно от ледовой воды, мучавшая его, нежданно сменилась ощущением сладостного, предчувствующего жара. Жарко было в руках, в сердце, в почках, в легких: Захарка ясно видел свои органы, и выглядели они точно теми же, что дымились пред его глазами минуту назад. И от осознания собственной теплой, влажной животности Захарка особенно страстно и совсем не болезненно чувствовал, как сжимается его сердце, настоящее мясное сердце, толкающее кровь к рукам, к горячим ладоням, и в голову, ошпаривая мозг, и вниз, к животу, где все было… гордо от осознания бесконечной юности.