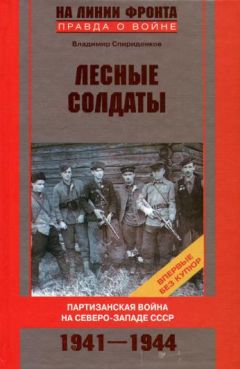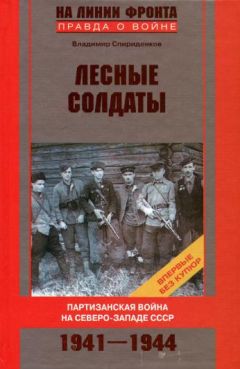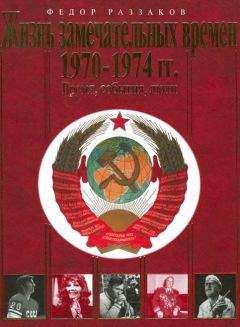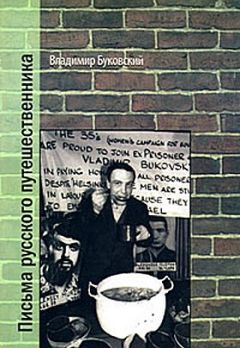Владимир Рыбин - Непобежденные
— Немцы лавиной шли, — начал Мельник, настороженно поглядывал на быстро бегавший по бумаге карандаш корреспондента. — Наших войск тогда немного было. Приморская армия только выходила к Севастополю и немцы рассчитывали с ходу ворваться в город…
— Общую обстановку можете опустить. Ближе к делу. Что говорил умирающий Цибулько?
— Говорил, что сам он был тяжело ранен еще в начале боя, что Красносельский погиб, сраженный очередью из танка, что боеприпасов уже не было и что Фильченков не стал рисковать последней гранатой, а привязал ее к поясу и бросился под танк. Потом Одинцов и Паршин последовали его примеру. И немцы отступили…
— Немцы отступили, — удовлетворенно повторил Бондаренко. — Немцы не только отступили, они до зимнего наступления больше не предпринимали атак на этом направлении. Почему?
— Не знаю, товарищ дивизионный комиссар.
— А я знаю. Их устрашило беспримерное самопожертвование моряков. Они поняли значение этого подвига. Они поняли, а вы — нет. Вы даже не доложили об этом.
— Мы докладывали, — вскинулся Мельник. — В донесении, точно помню, указывались все фамилии.
— Донесений много было, и фамилий тоже много. Слов нет, все погибшие за Родину, достойны чести. Но вы, политработник, обязаны были понять значение подвига политрука Фильченкова и его товарищей, должны были понять, что такое способно зажечь сердца людей.
— Не пришло в голову, — оправдывался Мельник. — Все дрались до конца.
Не пришло в голову…
Отпустив его, дивизионный комиссар долго сидел молча, ожидая, когда корреспондент перестанет писать. Так и не дождался, сказал:
— Вы это дайте сначала нам в «Красный Черноморец».
— Знаете, что меня больше всего поразило? — сказал Колодан, оторвавшись от блокнота. — Вот это его «не пришло в голову». Обыденность факта. Понимаете? В Севастополе каждый день случается столько необычного, что даже такое кажется обыденным. А ведь это… это легендарно. Это люди будут помнить и через сто лет. Надо только написать…
— Вот и договорились, — сказал Бондаренко, вставая, словно дожидался именно этих слов. — Теперь все в ваших руках. Я не ваш редактор, но, как старший по званию, даю вам боевое задание: срочно пишите.
На Севастополь опускался вечер, рыжие хвосты от пожарищ тянулись по небу. Над бухтой кружили «юнкерсы», пикировали на Корабельную сторону, где под прикрытием дымовой завесы и плотного зенитного огня стоял транспорт, прибывший с Большой земли. Эхо разрывов скакало над городом. Кончался еще один день севастопольской эпопеи. Один из тихих дней между большими боями.
IX
Командир не имеет права на плохое настроение. Тем более командующий. Когда на тебя смотрят со всех сторон, когда в каждом слове твоем, в каждом взгляде ловят надежду, можно ли задумываться о возможной безнадежности положения?
— Что там, на Керченском полуострове? — повсюду спрашивали Петрова.
А он ничего утешительного сказать не мог. Не кивать же вслед за командованием Крымского фронта на весеннюю распутицу? Никого не обошла зима, все знают, как крепки были морозы в январе-феврале. Почему же не наступали, когда не было распутицы? Не раз и не два севастопольцы получали приказы поддержать предполагавшееся наступление. Задачу свою они выполняли: Манштейн не перебрасывал войска из-под Севастополя на Керченский полуостров. А Крымский фронт все не решался наступать.
И вот решился. 27 февраля, когда дороги раскисли. Чего ждали? Не знали разве, что весной дороги раскисают? И при абсолютном превосходстве в людях и боевой технике Крымский фронт забуксовал на месте и через трое суток перешел к обороне.
Как это понимать? На чей счет отнести неоправданно большие потери?…
Петров поглядел на завернутую в марлю лампочку и опустил глаза на белую простыню, из-под которой выглядывало такое же белое, без кровинки, лицо Нины Ониловой, Анки-пулеметчицы, как звали ее в Чапаевской дивизии. Когда умирает раненный на поле боя мужчина, это, вроде бы, естественное дело. Но женщина, да еще молодая, все равно, что ребенок!…
Петров снял запотевшее пенсне, протер. Раненая все не открывала глаз, и он снова уставился на лампочку, подумав, что потери от этих периодически повторяющихся наступлений неоправданно велики. Осенью, когда надо было убедить врага в стойкости обороны, частые контратаки играли свою роль. Теперь противник пассивен, и наша активность может принести пользу только в том случае, если на Керченском полуострове действительно развернется широкое наступление. Без него же…
Раненая открыла глаза, посмотрела на сидевшего возле нее человека в белом халате и, не узнав его, снова опустила веки, медленно опустила, так, словно ей невмоготу было удержать их.
И опять слезная жалость сдавила ему горло. Столько за войну насмотрелся, пора бы очерстветь! Но время от времени все просыпалась юношеская чувствительность. Особенно когда видел страдания детей и женщин.
Откуда-то выплыло в сознании неожиданное сравнение войны с эпидемией. Это подметил, кажется, хирург Пирогов, и подметил именно здесь, в Севастополе. Он так и говорил, что у войны все признаки эпидемии. Что ж, если человечество рассматривать как единый организм, то война, пожалуй, и есть болезнь этого организма, вроде как болезнь обмена веществ, болезнь системы взаимоотношений между людьми, между народами. Войну, как и болезнь, можно пресечь в зародыше, но когда она выходит из-под контроля!…
Дальше мысли перескочили на незавидную долю профессиональных военных в такой стране, как Советский Союз. Война — главное их дело, которое, как и всякое дело, нельзя хорошо делать без любви. Но как любить войну? И возник перед ним давно не возникавший вопрос: хорошо ли распорядилась судьба, заменив желанную в юности долю художника беспокойной долей военного человека? И который раз он спрятался за привычный ответ: время такое, не хочешь, а приходится воевать. Но как же трудно постоянно глушить в себе чувство жалости, сострадания!…
Чуть слышно скрипнула дверь госпитальной палаты. Генерал обернулся, увидел профессора Кофмана и поразился бледности его лица. Лицо у главного армейского хирурга всегда было такое, но сейчас это почему-то встревожило Петрова. Знакомая судорога дважды свела шею, голова дернулась, и… он увидел широко раскрытые глаза Нины Ониловой. Она смотрела на командарма пристально, узнавая его, слабая, скорее жалостливая, чем радостная улыбка кривила ее губы.
Петров погладил раненую по голове.
— Ты славно повоевала дочка, — сказал, не узнавая своего вдруг охрипшего голоса. Спасибо тебе от всей армии, от всего нашего народа. Ты хорошо, дочка, храбро сражалась…
Снова жалость подхлынула под самое горло, суетным движением он достал носовой платок, принялся протирать пенсне. Вздохнул, надел пенсне, взглянул на раненую.
— А помнишь Одессу, лесные посадки, поселок Дальний, холмы?
Губы ее чуть растянулись в улыбке, глаза оживились, блеснули.
— Весь Севастополь знает тебя. Вся страна будет знать тебя. Спасибо тебе, дочка…
Наклонился, поцеловал ее в лоб и вышел. В коридоре вдоль стен стояли раненые, врачи, медсестры, ожидающе смотрели на него, словно он был кудесником и одним своим приходом мог оживить умирающую.
Уже у выхода вдруг услышал смех, дробный смех здорового человека. Недоуменно оглянулся на Кофмана, идущего следом. За углом увидел долговязого санитара и маленькую, совсем юную, санитарку.
— Почему вы смеетесь? — спросил холодно.
Санитар вытянулся.
— Извините, товарищ генерал, все она, Сонька, такое скажет!
— Я спрашиваю: почему вы позволяете себе смеяться? Здесь.
Потупился санитар, но не струсил.
— Так ведь смех это, товарищ генерал, как лекарство. Врачи говорят…
— Тому, кто смеется — лекарство, — перебил Петров. — А каково им слушать? Им сейчас от всего больно. Они ждут сочувствия, сострадания.
— Извините, товарищ генерал, но ведь это… привыкаешь…
— Не можете вы работать санитаром.
— Накажем, товарищ генерал, — высунулся чей-то голос из толпы сопровождавших его врачей.
Петров помотал головой, вопросительно посмотрел на Кофмана, и тот с поразительной проницательностью понял его, показал на соседнюю дверь.
В крохотной комнатке, где они оказались вдвоем с Кофманом, стояли топчан, тумбочка возле него и стол, покрытый чистой простыней: должно быть, тут отдыхали врачи в редкие свободные минуты. Петров сел на табурет, достал блокнот, быстро, размашисто начал писать.
Мысль эта, как часто бывало, возникла сразу в готовом виде — обратиться с письмом от имени Военного совета Примармии ко всем врачам, фельдшерам, санитарам и сестрам. Карандаш быстро бегал по бумаге: «…Большое значение в деле лечения имеет обстановка лечебного учреждения и степень выполнения внутреннего распорядка… Кому, как не медицинским работникам, знать, что там, где находятся раненые и больные, где слышны стоны и видны физические страдания людей, не пожалевших свои жизни для защиты любимого отечества, — там не может быть места легкомысленным шуткам, смеху… Часть медицинских работников очерствела к страданиям и физическим болям людей…»