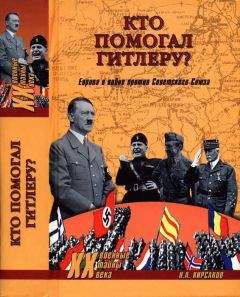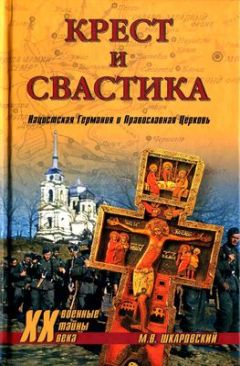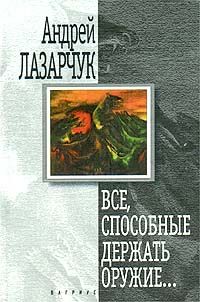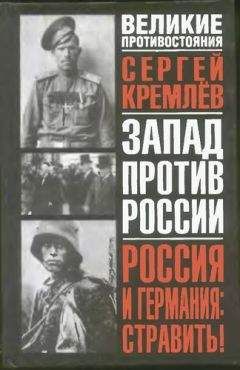Ванда Василевская - Реки горят
Не вернулись те, что переправились на другую сторону, на черняковский плацдарм.
Не вышли сюда и те — с баррикад, из домов-крепостей, из города, охваченного огнем, безумием и отчаяньем.
В который же это раз предали варшавян? Вместо приказа пробиваться, переплывать на восточный берег Вислы «лондонцы» приказали им сдаться врагу. А ведь здесь все было подготовлено, чтобы артиллерийским огнем и самолетами прикрыть переправу повстанцев. Они могли спастись, могли с оружием в руках прийти сюда, к своим…
Но на левом берегу, в Варшаве, об этом знали только в штабе восстания, а там засели агенты «лондонцев» и, совершая свое черное предательство, тщательно скрывали все, что могло дать людям надежду, что могло быть путем к спасению.
Ведь пробилась же горсточка смельчаков вопреки приказам и запретам! Пробилась и принесла на пражский берег страшную повесть о героизме города и агонии города, о том, как торжествующие победу гитлеровцы с почестями принимали командующего восставших варшавян, в то время как его солдат гнали на запад, в лагери уничтожения.
Варшавян заставили еще раз пережить горечь поражения, крушения всех надежд. И снова и снова, как тогда, «вождь» уехал в лимузине, а солдаты, поникнув головой, побрели в свой крестный путь.
Но ведь теперь не тридцать девятый, а сорок четвертый год! Ведь изменился весь облик мира! Ведь между двумя сентябрями были и Москва, и Ленинград, и Сталинград, и Орел — великая эпопея героизма, какого не видывал свет!
Все это прошло мимо лондонских «руководителей Польши», они вели свою преемственность от сентября тридцать девятого, не желая знать ничего нового, — и они ценой крови тысяч людей, ценой развалин и пепелищ старались связать порванные раз навсегда нити этой преемственности.
Варшава пуста и все горит, горит, горит. И кажется, будто там, на том берегу, гибнет в пламени любимый человек.
Моросит октябрьский дождь. Горит на том берегу Варшава, как факел, окутанный черным дымом, втаптываемый в землю.
А в Варшаве, в первом доме…
Упрямо, однообразно звучит песенка. И в тон ее бесконечно повторяющимся словам бьется мучительная мысль, несказанная печаль, глухая тоска о городе, преданном на смерть.
Нет, не даст уснуть пылающий город на том берегу.
— Первый раз я в Варшаву с отцом приехал, — говорит какой-то солдат. — Отец работы искал. Да куда там! Как раз забастовка была. Отец-то у меня каменщик…
— А мы варшавяне. С дедов-прадедов. И всю жизнь в одном доме жили. Со двора, комната с кухней. Мать на окне герань выращивала — чудо, что за герань была!
— Крышка теперь твоей герани.
— Наверно, и дома-то нет. А сколько простоял! Мой прадед еще в этом доме жил, только в другой квартире. Все равно пойду искать, хоть на то место посмотрю, где он был…
— А народу, говорят, под развалинами осталось — страсть!
— Эти девчата, которые переплыли сюда, рассказывали, что людей на улицах, на скверах хоронили. А уж где дом рухнул, там ни времени, ни сил откапывать не было…
Из-под черной тучи дыма, окутывающей город, взвивались вдруг султаны пламени. И тогда в дыму виднелись развалины, похожие на очертания причудливых зданий. Но пламя меркло, все снова погружалось в черную тучу, подсвеченную снизу мрачным, рыжим светом.
Глаза силились рассмотреть в хаосе мрака и огня какие-нибудь знакомые силуэты.
— А там, направо, что видно?
— Да это же замок!
— Тю! замок… Замок левее. А вот справа?
— Цитадель, на самом берегу.
— Это что такое — цитадель?
— Эх ты, гужеед! И цитадели никогда не видал?
— Я и в Варшаве никогда не был. Мы из-за Седлеца. Над самым Бугом наша деревня.
— Да ведь это недалеко, сколько от вас до Варшавы?
— Не то сто двадцать, не то сто тридцать километров, говорили.
— И ты не поехал посмотреть?
— А откуда у меня деньги на билет? У нас деревня бедная, на песке. В Седлец и то, когда надо, пешком ходили, а там всего три остановки поездом. Куда уж нам было в Варшаву!
— А земли у тебя сколько было? — заинтересовался сосед.
— Земли-то? Какая у нас земля… Песок и песок… Еще картошки, бывало, уродится немного. А так — одна полынь растет.
— Теперь землю получишь.
— Говорят, получу… А земля у нас есть. У одного графа Руженского какое имение! Мы, бывало, на заработки к нему ходили — пятьдесят грошей в день платил.
— Крышка теперь твоему графу.
— Только бы наделили как следует… А то у меня баба там одна, недосмотрит, того и гляди дадут какой-нибудь огрызок…
— Мужик, он всегда мужиком и останется, — философски заметил худой солдат в длинной шинели. — Раньше у него ничего не было, а теперь, когда он знает, что ему дадут, — так боится, как бы его не обманули…
— Да уж оно так, всякий народ бывает. Конечно, он там, на месте сидя, лучший участок себе выберет.
— А я и гнаться не буду! Вот на западе, говорят, земли много, лучше уж я там участок возьму.
— Сперва немцев с этих западных земель выгони!
— Не беспокойся, без оглядки оттуда побегут.
— Побегут-то побегут, а пока вот Варшава горит…
Они притихли, глядя туда, где при внезапных вспышках пламени, как призрак, выступала черная громада цитадели.
— Ходили; мы как-то с экскурсией осматривать эту цитадель. На том месте, где при царе вешали, — могилки, плиты белые каменные. А виселица под стеклом.
— Под стеклом? — изумился крестьянин из-под Седлеца.
— Ну а как же? Дерево ведь, так чтоб не сгнило, на память… И венки на могилах лежали, и мраморные доски — все как следует.
— А по ту сторону цитадели ты был? — спросил сидящий на корточках коренастый пожилой солдат.
— Это по какую сторону?
— А вот от Жолибожа.
— А там что?
Тот не спеша крутил цыгарку, угощая табаком остальных.
— Холодно, дождик-то всерьез взялся… Закурить, что ли? Все теплей будет.
Они осторожно закурили, пряча в рукава огоньки цыгарок.
— А мы вот с другой стороны побывали, только не с экскурсией, туда экскурсий не водили. Ров этакий и лужок, вроде ничего особенного и нет. И даже козы на лужке паслись. А там в двадцатом году расстреливали.
— Кого расстреливали? — удивился молодой солдат.
— Разных… Коммунистов расстреливали… И тех, которые не хотели воевать против большевиков… И тех, которые с большевиками на Варшаву шли.
— Наших?
— Наших. «Красный полк Варшавы». Был такой. Так вот, если из этого полка кто в плен попадался, на этом лужке расстреливали у крепостного вала. Да и потом моего товарища одного — токарь был, с Воли, — в двадцать пятом году тоже тут расстреляли. Троих тогда расстреляли.
— За что?
— В провокатора стреляли. Я вот теперь смотрю на левый берег и думаю: не дождался Владек!.. С нами бы теперь был.
— Смотри-ка! Кто с большевиками шел, тех расстреливали! А мы теперь все с ними… Сколько их тут за Польшу погибало… — вздохнул молодой солдат.
— Не бойся, попался бы ты им сейчас в руки, тоже бы расстреляли, не задумались бы!..
— Это кто же?
— Да все те же! А кто в Люблине капитана убил? Еще не раз придется нам с ними дело иметь. Не так-то легко они свое отдадут. Вот хоть и твой граф — легко ему имения лишиться? Небось захочет опять тебя за пятьдесят грошей нанимать, как прежде…
— О, смотри! Слева вроде еще что-то загорелось!.. И когда только мы туда пойдем?
— Прикажут — пойдем. Начальство лучше знает, куда и как идти.
— Это-то конечно. А только тоска… У тебя, Янек, есть кто в Варшаве?
Молодой солдат медленно, неохотно ответил:
— Откуда мне знать? Был отец, мать была, братья…
— Э, что там, не всех же убили! — искусственно оживленным тоном отозвался кто-то из его товарищей.
— Кто знает? И как можно уцелеть в этих развалинах, в этом огне?
— Эх ты! Говорили же летчики, сами видели, как их по дороге из города гнали.
— Куда?
— Ну, это покамест неизвестно.
Разговор снова затих. Но сразу же рядом зазвучали голоса.
— Мы тогда остались на Лильпопе…
— В котором это было году?
— В котором? Постой, я тогда работал второй год, значит…
Моросило. Сырость оседала на шапках, на шинелях, лица солдат были мокры. Они поглубже засовывали руки в рукава.
— Холодно.
— Что ж ты хочешь? Октябрь…
— Помню, раз в октябре такая теплынь стояла, пошли мы в Лазенки…
В разговорах, воспоминаниях, во всех мыслях то и дело возникала она — горящая на той стороне столица. Никому не хотелось спать. Взгляд, как околдованный, устремлялся туда, где виднелся во мраке догорающий город. Он вырастал перед глазами ярким светом шумных улиц, вздымался стенами домов, глядел стеклами окон. Важные события и пустячные случаи четко рисовались на фоне именно той, а не иной улицы, того, а не иного закоулка. Варшава оживала в памяти. Казалось, что она стоит там, за едва поблескивающей во тьме Вислой, все та же, неразрушенная, живая, цветущая зеленью парков, шумная, позванивающая трамвайными звонками.